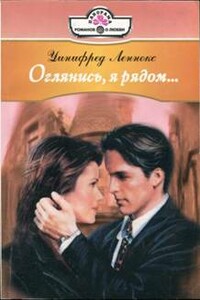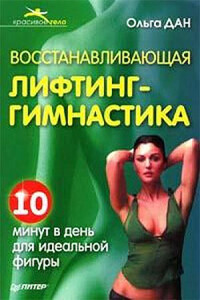Томительно жарким было это лето в Париже, но улица Коленкур поутру сохраняла еще легкое дуновение свежести. Санди шла не спеша, щурясь от яркого солнца, которое зажигало снопами лучей витрины. Мимо плыл, шурша, нескончаемый поток машин: парижане спешили оставить раскаленный город хотя бы на субботу и воскресенье, мечтая о траве, речной прохладе, тенистых деревьях.
А Санди ранним утром вернулась в жару и духоту, и, пока ехала домой на такси, темно-красные и темно-зеленые навесы кафе казались ей флагами, вывешенными в честь ее возвращения. Отперла дверь, поставила сумку и побежала посмотреть, что сталось с ее садиком.
Как истинная шотландка, она обожала землю и не могла представить жизни без зеленой травы и цветов. Квартиру она искала долго, но свое чудо из чудес — собственный сад в городе — отыскала на Монмартре, который, живописно возвышаясь над тесными средневековыми улочками, сохранил вместе с последним виноградником память об иной, не городской, более привольной жизни. Квартира была невелика, но застекленная дверь спальни открывалась прямо в сад, где на лужайке едва умещалось кресло-качалка, зато вокруг пенились герани: розовые, белоснежные, огненно-красные.
— Ну как вы, мои милые? — весело обратилась к ним вернувшаяся хозяйка. — Соскучились?
Солнца в садик-колодец попадало не так уж много. Соседка заботливо поливала ее цветочки, так что Санди нашла, что жара и разлука пошли им на пользу. Звонить Филиппу было еще рано, но и сидеть в четырех стенах невмоготу: ни о чем больше не заботясь, Санди поспешила окунуться в веселую суету городского утра.
Горожане разъехались, но Париж не опустел. Кочуя из музея в магазин, из собора в ресторан, теснясь и толпясь, бродили по его улицам, площадям и набережным орды туристов. Высокая крупная Санди плавно огибала то одну, то другую группу, застывшую с запрокинутыми головами посреди улицы. И сама невольно поднимала голову и любовалась строгими кариатидами, легкомысленной башенкой, витой решеткой.
Еще вчера она сидела на веранде в родной Шотландии, любовалась закатом, как вдруг почтальон принес телеграмму. Четыре слова: «Запускаемся понедельник целую Филипп». В мгновение ока Санди уложила вещи, расцеловалась с родителями, вскочила на подножку экспресса. Бессонная ночь, и она в Париже.
Санди свернула с Коленкур на улицу Плакучих ив, маленькую и тихую. Даже на Монмартре по боковым улочкам ходят только свои. Еще несколько шагов, и она уже в уютном кафе, где каждый день рано утром пила кофе.
— Доброе утро, Пьер, — поздоровалась она с хозяином.
Темноволосый щеголеватый Пьер, здороваясь, удивленно вскинул брови, но не спросил, почему мадемуазель Тампл, которая всего неделю назад прощалась, уезжая в отпуск, вернулась так скоро.
Санди села за круглый столик — поближе к кондиционеру — и, наслаждаясь прохладой, попросила:
— Пожалуйста, кофе и фисташковое мороженое. Кофе черный, — прибавила она.
Рука Пьера, потянувшаяся к крошечному молочнику со сливками, застыла в воздухе: мадемуазель, которая вот уже два года неизменно заказывала кофе со сливками, пьет теперь черный? Удивительно!
Глоток душистого крепкого кофе прибавил Санди бодрости. От жары она совсем было размякла, да и бессонная ночь сказывалась. Интересно, сколько времени? Почти десять. Можно звонить.
Подошла к стойке, набрала номер. Услышала басовитое «алло», и сердце у нее заколотилось.
— Доброе утро, — сказала она, — я в Париже. Очень срочная работа, пришлось приехать.
— Санди! Вот здорово! — Абонент явно обрадовался. — А мою телеграмму ты получила?
— Нет,— слукавила она, желая услышать новость от самого Филиппа и дать ему понять, что приехала исключительно по делам. — Ты посылал телеграмму? Что-то случилось?
— Треньян сломался! — В голосе Филиппа звучало торжество. — В понедельник начинаются съемки! Рада?
— Да! Да! Да! — ликующим эхом отозвалась Санди.
— Значит, вечером отпразднуем. Часов в семь я позвоню. А пока весь в делах. Целую. До встречи!
— До встречи.
Вернувшись за столик, она принялась за мороженое — зеленое, как холмы Шотландии, прохладное, как вечерний туман над рекой. Напряжение сменилось истомой усталости, пришлось заказать еще чашечку кофе.
К родителям Санди приехала на грани нервного срыва. Мама ахала и причитала — как побледнела, как измучилась, бедняжка! Принялась кормить, отпаивать парным молоком. Целыми днями суетилась на кухне, колдуя то над пышками, то над свиными ножками. Молчун-отец сидел в уголке, поглядывая на жену и дочку. Сидя, он занимал полкухни, а когда вставал... Санди пошла в него — крупная, высокая, статная, а вот большие серые глаза, рыжеватые волосы и веснушки — от матери. И худенькой она была в детстве, тоже как мама. Мамина сестра, тетя Кэтрин, которая вышла замуж за француза и жила под Парижем, нашла, что у племянницы большие способности к танцам, увезла с собой и отдала в балетное училище. Ну и намучилась там свободолюбивая шотландка! Сколько плакала! Как ненавидела и пансион, и балет, и Париж! Потом Париж приручил ее, и она его полюбила. Теперь неизвестно, где Санди больше дома — в Париже или на увитой плющом веранде, выходящей на реку Спей.