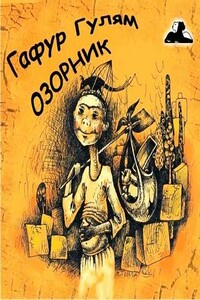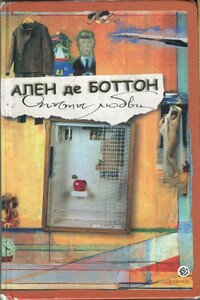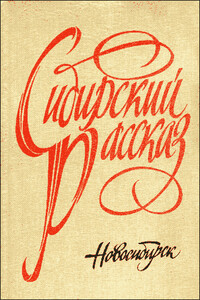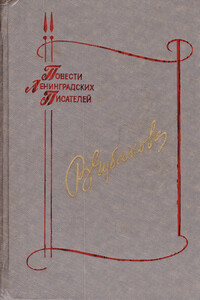Затяжные дожди месяца Савр вытянули за ушко да на белый свет всю зелень. Воздух чист и прозрачен. Солнце, точно девица после долгих слез, поглядывает с высоты небес сквозь влажные ресницы.
Непрестанное щелканье перепелиного племени приветствует весну-невестку: «Добро пожаловать, добро пожаловать!..»
Парни, всю зиму превшие на ежевечерних тукмах — пирушках, рыщут в поисках площадки попросторней, чтобы помериться силами в борьбе.
Лишь для улицы Андреевской (Пойкавак) все четыре времени года — весна. У нее свои, особые, солнца. Ее перепела не смолкают никогда, а парни там меряются силой круглый год…
Это — развеселая улица. Она живет, не разделяя общепринятых радостей и забот. У нее и радости — свои, особые, и заботы — свои, особые.
Ей не пристали ни благонравие, ни чинность, напротив, здесь всецело царствуют распутный гогот, срамные песни, бесстыдные зовы и пьяные вопли. А сама улица источает какой-то сладковатый и приторный аромат.
Публичные возлюбленные, такие, как Путахон, Санта-латхон, Зебихон, Холдархон, Саодатхон, Маъфиратхон, Лутфихон, воплощают душу этой улицы. Ими и держится ее вечная весна.
Лишь ради них стекаются сюда издалека городские юнцы-ремесленники и ухари-чапани. Ради милой пьют, ради красотки готовы прозакладывать и халат, и сапоги. Будь что будет — лишь бы насладиться минутной беседой с Зебихон, короткой песней, миловидным лицом и пышными формами. Они готовы схватиться с соперником на кулаках, готовы по воле избранницы человека убить, а потребуется — готовы сами умереть.
На кон — деньги, и на кон — жизнь.
Нередко арык, протекающий через Пойкавак и вливающийся в Салар, начинает краснеть и дымиться — то ли от стыда за ежевечерние безобразия, то ли от особенных лютостей и зверств минувшей ночи.
Лишь им — в тоске — посвящают песни поэты. В рассужденьи черных бровей, благоуханных волос, гибкого стана и яблочно-румяных щек.
Изгиб бровей твоих избрал
я алтарем для чувств своих,
Зубам твоим не предпочту
аданских перлов дорогих.
Предстань хоть тысяча Зулейх,
ты превзойдешь красою их,
Ведь город мускуса Хутан
не знал волос длинней твоих.
Пленились родинкой твоей
на Инде дальнем, Зебихон!
Сурьмой, как трауром, глаза
оделись, чтоб меня казнить.
Сто ран в душе от стрел ресниц, которых мне не отразить.
Молю тебя единый взгляд —
безумцу страсти подарить,
Чтоб ожил Масихо и мог
живым среди живущих жить.
Яви внимание рабу
в плену печальном, Зебихон!
Так говорят поэты и впивают, не брезгуя, затхлый дух пирушек. Однако самим Зебихон и Путахон оттого не легче. Душа слезами обливается, а лицо смеется. Сердце кровоточит от унижений, а глаза узятся призывно.
Неведомая для них неотвратимость, незримое понуждение бросили их в эту золотую пучину. Некий охотник с алчными глазами заточил их в эти золотые клетки.
Окруженные преходящим поклонением, они невольно задыхаются в объятиях нелюбых, часто сменяющихся дружков.
Нередко они плачут.
Но слезы эти — глупые слезы. Ибо — есть же у них хозяева! И по гроб жизни они обязаны этим хозяевам!
Пища — даром… Одевка-обувка — даром… Жилье — даром…
Стало быть, красоткам остается лишь радоваться веселой жизни да благодарить хозяев. И уж не почесть за тягость занять гостей, поиграть, посмеяться, одарить лаской и негой залетных — на одну ночь — воздыхателей…
К звукам развеселых недр Андреевской улицы присоединился еще один дуэт. Со стороны Салара приближались два пьяных джигита и орали песню, брызжа пеной изо рта, как два одуревших верблюда.
Не ходите в Искобил, там дороги — ой-ей-ей… эй!
За урюк ли, яблоко — там расстанешься с мошной… эй!
Подошел я под урюк, подошел под яблоню… ай! еру!
Вижу, девушка лежит, извивается змеей… эй!
Этот рев, эти несущиеся вдоль улицы голоса друзей захлестнули все иные вопли.
Долговязый, тот, что проглатывал половину слов и гнусавил в нос подголоском, тянул за рукав бекасамового халата коренастого крепыша с открытой грудью, на каждом плече которого могло бы усесться по человеку.
— Палван… Палван, говорю, погодите немного…
— Чего тебе, растяпа? Не ломай песню…
— К кому пойдем-то? К Холдархон или к Санталат?
— Вай-ей, по мне так… обе хороши. К какой ведешь, к той и пойдем, растяпа, тебе лучше знать, что к чему на этой улице.
— Значит, идем к Холдархон, тем более — с хозяина ее, с Каракоза, мне небольшой должок причитается.
— Причитается??! Ха-ха-ха… я гляжу, где мы теряем — тебе, растяпе, причитается, а? Только этим и не занимался… Как говорится, поишь цыганского осла и ухитряешься деньги за это слупить, ха-ха-ха…
Коли руку запущу, где нет пуговок, ер-ер,
Два граната всколыхну, что без косточек, ер-ер…
— Вай до-о-од, что за местечки без косточек!..
Вдвоем они подошли к большому зданию под золоченой вывеской и, подпирая друг друга, пошли наверх по множеству ступенек.
— Самад, — сказал Палван, — если сам не будешь языкаться со здешними — моя не понимай, ха-ха-ха…
— Ладно, Палван.
Самад и Палван подошли к дородной женщине, сидевшей при нумерованной дощечке с ключами.
— Издирас, мамашка, издирас, как поживай?
— Ничего, — сказала женщина.
— Хозяин здесь? Каракоз? — спросил Самад.
— Здесь, в конторе.
— Идемте, Палван. В конторе, оказывается, сам. Зайдем.