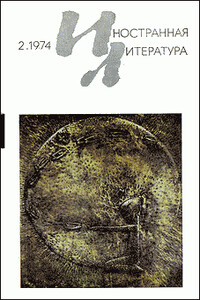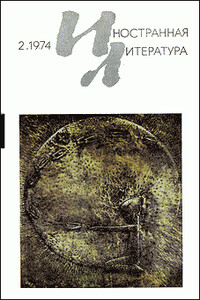Предисловие к русскому изданию
В первый раз предлагаемый том «Дневника» Башкирцевой, вместе с приложением ее переписки с Ги де-Мопассаном, издан был на французском язык журналом «La Revue» в 1901 году. Как и первые два тома, он представляет собою только часть того рукописного материала, который остался после Башкирцевой. Необыкновенная интеллектуальная энергия и, как выражается Франсуа Коппэ, железная воля, скрывавшаяся за внешностью очаровательной женщины, — эта энергия и воля очень рано стали требовать выхода. И вот, начиная с двенадцатилетнего возраста, она все свои досуги посвящает «Дневнику». Это единственный верный хранитель всех ее страстных желаний, тревог и дум. Ему же она доверяет и все те мимолетные мысли и внутренние переживания, которые обыкновенно остаются самым интимным достоянием человеческой души, — в особенности души женской. О них не говорят, еще меньше о них пишут. Они так и остаются затаенными, невысказанными.
Надо думать, что эти интимные признания не дешево обходились Башкирцевой. Далеко не всегда она чувствовала себя хорошо, когда они лежали перед нею в виде исписанных страниц «Дневника». По крайней мере, в разных выражениях у нее не раз встречается фраза, с которою читатель встретится ниже: «нынешний вечер я презираю себя, презираю эти записки». Тем не менее «Дневник» продолжал обогащаться признаниями, так как она сама смотрела на него, как на «человеческий документ», в который она решила вносить «самую точную, самую беспощадную правду». И когда эта правда увидела свет, она произвела огромное впечатление. За короткое время «Дневник» выдержал несколько изданий на главных европейских языках и вызвал целую массу самых восторженных отзывов. Даже «великий старец» Гладстон почувствовал потребность поделиться с читателями тем впечатлением, какое произвело на него чтение «Дневника». И в специально посвященной ему статье он называет этот «человеческий документ» одной из замечательнейших книг нашего столетия.
Но далеко не все умеют читать такого рода исповеди. Далеко не все любят такие затаенные признания, когда они лежат перед ними в виде раскрытой книги, куда каждый может заглянуть. Одни видят в них ложь и поклеп на человеческую природу, другие — тщеславие и манию величия. Так и посмотрели некоторые русские критики на Башкирцеву. В их глазах она оказалась тщеславным ничтожеством, которое только и жаждет, чтобы наделать шуму, чтобы о нем говорили.
Башкирцева как бы предвидела такое отношение к себе и заранее ответила на него. «К чему лгать, к чему позировать? — спрашивает она себя — «да, во мне живет жажда, если не надежда, остаться на этой земле во что бы то ни стало. Если смерть не настигнет меня в молодости, я надеюсь пережить себя, как великая художница. В противном случае я завещаю издать мой дневник, хотя он и может быть только интересен»[1].
Эти строки написаны ею всего за несколько месяцев до смерти, когда и в печати и в мире художников о ней уже говорили как о первоклассном таланте, от которого, в виду ее молодости, можно ожидать целого ряда гениальных произведений. Но сама Башкирцева, видела себя только накануне настоящего труда, бесконечно далекой от того, что могло бы хоть сколько-нибудь удовлетворить ее благородное честолюбие.
И трудно было бы привести пример такой суровой, такой жестокой требовательности к себе, какая таилась глубоко в душе этой замечательной русской женщины. Малейший подъем настроения и веры в свои силы она искупала муками глубокого, никому неведомого отчаяния, — и не раз у нее являлось желание умереть. В эти моменты отчаяния она не раз готова признать себя жалкой бездарностью, которой только и остается выйти замуж за какого-нибудь «советника» и «быть как все». Но тут же бесплодная и банальная жизнь этих «всех» внушает ей чувство глубокого отвращения, — ведь она их достаточно наблюдала в окружавшем ее «избранном» обществе! Огромный запас благородных сил ума и души берет верх, — и она с удвоенной энергией берется за работу.
Все свое время, все свои помыслы она отдавала страстно любимому ею искусству. Ему она и в последний момент своей кратковременной жизни посвящает свою уже угасающую мысль. Казалось бы, что искусство должно было поглотить ее всю, без остатка. Однако, у Башкирцевой всегда хватало сил на удовлетворение других запросов своей богато одаренной индивидуальности, — и удовлетворяла она их не по-дилетантски. Она не только читала, — она изучала в подлинниках, из первых рук, шедевры человеческого ума: когда Франсуа Коппэ, незадолго до ее смерти, нанес ей первый и единственный визит, он застал ее за чтением в подлиннике самых возвышенных и глубоких страниц Платона.
Эта упорная умственная работа коренным образом повлияла на всю ту систему понятий и представлений, которую она унаследовала от воспитавшей ее среды. Весь строй ее миросозерцания становится совершенно иным, и ломка идет таким же лихорадочно быстрым темпом, как и вся ее внутренняя жизнь. Но и здесь, в сфере умственной жизни, Башкирцева прежде всего художник. Как художник она судит и о таких политических деятелях, как Гамбетта и Клемансо. Когда умер Гамбетта, она с чувством искренней скорби восклицает: «да, Гамбетта был поэзией и разумом нашего поколения!» А когда Клемансо в палате депутатов произнес однажды речь об избираемости судей, то ее прежде всего поражает художественная сила ясности и точности выражений. «Здесь все сжато, как в любой картине Гольбейна»!