Больше всего на свете Крошка-Крестик любила делать вот что: уходила на самый край деревни и садилась точно под прямым углом к иссохшей земле, когда солнце припекало особенно сильно. Она неподвижно сидела часами, прямо держа спину и вытянув ноги, — ну, почти неподвижно. Руки ее иногда двигались словно сами по себе, выдергивали травинки и плели из них веревочки и корзиночки. Так сидела она и смотрела вроде бы на землю под собой, ни о чем не думала, ничего не ждала, просто сидела под прямым углом к иссохшей земле на самом краю деревни, там, где вдруг кончалась гора и начиналось небо.
Это был безлюдный край, край песка и пыли, и единственной его границей были высокие прямоугольные плато на горизонте. Земля здесь была слишком скудна, чтобы кормить людей, и дождь не падал с неба. Асфальтовая дорога пересекала край из конца в конец, но по этой дороге надо было ехать не останавливаясь, не оглядываясь на пыльные деревни, ехать только прямо среди миражей, во влажном шорохе перегретых шин.
Солнце здесь имело силу, куда большую силу, чем земля. Когда Крошка-Крестик сидела так, она чувствовала его силу на своем лице и на теле. Но она его не боялась. Оно шло своей долгой дорогой по небу, и ему не было до нее дела. Оно раскаляло камни, осушало ручьи и колодцы, жгло деревца и колючие кусты. Даже змеи, даже скорпионы боялись его и прятались в норках и под камнями до темноты.
А Крошка-Крестик — нет, не боялась. Ее неподвижное лицо стало почти черным, а чтобы не напекло, она закрывала голову краем покрывала. Она любила свое место на вершине крутого утеса, там, где земля и скалы вдруг обрываются и рассекают холодный ветер, будто нос корабля. Ее тело само знало это место, оно было словно для нее предназначено. Совсем маленькое местечко, аккурат по ней, ямка в иссохшей твердой земле точно по форме ее ягодиц и ног. Долго-долго могла она сидеть под прямым утлом к земле, покуда солнце не остывало и не приходил старый Бахти, чтобы взять ее за руку и отвести ужинать.
Она трогала землю ладошками, водила пальцами по мелким морщинкам от ветра и пыли, по бороздкам и бугоркам. Песчаная пыль оседала мягким, как тальк, порошком, по которому скользили ладошки. Когда поднимался ветер, легкая пыль улетала из рук и как дымок исчезала в воздухе. Твердая земля нагревалась на солнце. Много дней, много месяцев приходила Крошка-Крестик на это место. Она уже и не помнила, как его нашла. В памяти остался только вопрос, который она задала старому Бахти, про небо, про цвет неба.
"Что такое синева?"
Вот о чем она спросила в тот первый раз, а потом нашла это место, эту ямку в твердой земле, будто давно ее поджидавшую.
Люди из долины теперь далеко. Ушли-улетели, точно стая жуков, по дороге через пустыню, и не слышно больше их гула и гомона. Может, едут они где-нибудь в своих грузовичках под музыку из радиоприемников, которые шипят и стрекочут, как жуки и кузнечики. Едут себе прямо по черной дороге мимо иссохших полей и озер-миражей, едут, не глядя по сторонам. Все вперед и вперед, как будто никогда им не суждено вернуться.
Крошка-Крестик любит, когда нет никого вокруг. За ее спиной деревенские улицы пусты, так пусты, что холодному ветру тишины не за что на них зацепиться. Стены полуразрушенных домов стоят, точно скалы, — тяжелые и неподвижные, источенные ветром, безмолвные, неживые.
И ветер молчит, всегда молчит. Он не похож на людей, не похож на детей, не похож ни на одно из живых созданий. Он просто проносится над стенами, над скалами, над твердой землей. Долетает до Крошки-Крестика и обнимает ее, холодит обожженное солнцем лицо, хлопает краями покрывала.
Вот если бы ветер остановился, может, стали бы слышны голоса мужчин и женщин в полях, скрип ворот у колодца, детский крик у щитового домика-школы внизу, где стоят хибары из листового железа. А еще дальше, быть может, Крошка-Крестик услышала бы, как стучат на рельсах колеса товарных поездов, как ревут грузовики-тяжеловозы на черной дороге, спеша к городам, где шум еще громче, и к морю.
Теперь Крошка-Крестик чувствует, как ее наполняет холод, и не противится. Только трогает землю ладошкой, а потом трогает свое лицо. Где-то позади лают собаки, просто так, полают немного и ложатся в кружок в уголке у стены, уткнув носы в пыль.
В этот час тишина так огромна, что все может произойти. Крошка-Крестик помнит свой вопрос, — уже который год она его задает и так хочет знать ответ — вопрос про небо, про цвет неба. Но она не спрашивает больше вслух: "Что такое синева?"
Потому что никто не знает верного ответа. Она сидит неподвижно, под прямым углом, на крутом обрыве, и прямо перед ней — небо. Она знает: что-то будет. Каждый вечер она ждет на своем месте, сидя на иссохшей земле, чего-то для себя одной. Ее почти черное лицо, обожженное солнцем и ветром, чуть запрокинуто, чтобы ни единая тень на него не упала. Она спокойна, ей не страшно. Она знает, что ответ придет однажды, хоть и не понимает толком как. С неба не может прийти ничего плохого, это уж наверняка. Тишина стоит в пустой долине, тишина в деревне за ее спиной — все для того, чтобы она могла лучше расслышать ответ на свой вопрос. Она одна сможет его услышать. Даже собаки спят и не знают, что будет.


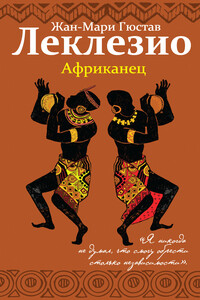
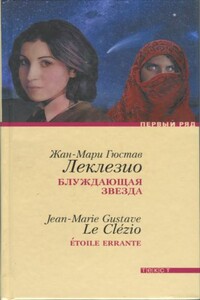
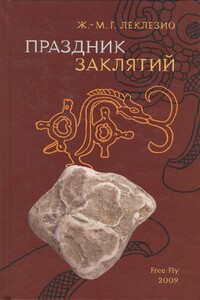




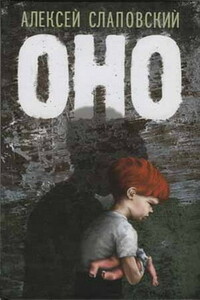
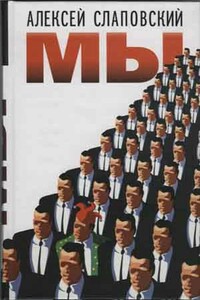

![Воровская яма [Cборник]](/storage/book-covers/08/086ec5131cfee1e9284b895205abfa019c8ddf36.jpg)



