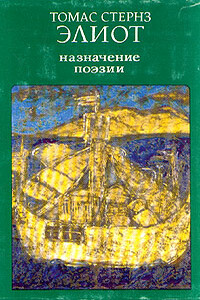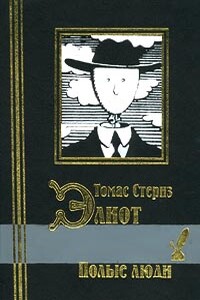О литературно-критическом наследии Т.С. Элиота
Эстетические и культурфилософские работы Томаса Стернза Элиота нам фактически неизвестны. Несколько его статей, вошедших в различные антологии последнего времени[1], собственно не в счет. В лучшем случае они позволяют ощутить характер элиотовской критики, однако этого явно недостаточно, поскольку, — пример не частый, когда мы имеем дело с теоретиком искусства, с поэтом, — у Элиота была выношенная система взглядов на литературу. Причем система создавалась им последовательно и воплотилась в целом ряде сочинений, которые характеризуют Элиота ничуть не менее выразительно, а влиятельны, пожалуй, даже более, чем его поэзия.
Беглое знакомство не позволяет представить логику, на которой эта система основывается, и оценить ее по достоинству. Скорее наоборот, такого рода мимолетные прикосновения к эстетическим теориям Элиота плодят мифы, которые хуже незнания.
Всего устойчивее оказался миф, изображающий Элиота воинствующим поборником формализма. Ложная аксиоматичность подобных предпосылок болезненно сказалось на судьбе элиотовского наследия. Оно стало опорой «новой критики», явившей законченно формалистические интерпретации литературных текстов, подвергнутых такому анализу, который уместнее назвать препарированием. Оно породило и в самой поэзии настойчивые попытки конструирования искусства взамен истинного-творчества, которое всегда свободно от предустановленных канонов.
При этом именем Элиота охотно клялись, но на поверку выяснялось, что представление об Элиоте весьма тенденциозно и однобоко. В сущности, оно сводилось к нескольким его положениям, сформулированным еще в 20-е годы и несущим на себе совершенно явственный отпечаток эстетической полемики того времени. Первая из элиотовских книг-манифестов «Священный лес» (1920) заключала в себе резкий и в той атмосфере вполне понятный спор с эпигонами, а также-известным критиком Мэтью Арнольдом, чей авторитет в английской литературе еще оставался едва ли не безусловным. Характер этой полемики станет ясен из публикуемой ниже элиотовской статьи «Мэтью Арнольд» (вошедшей в книгу «Назначение поэзии и назначение критики», 1933). Заметим, что спор не обошелся без крайностей. Они дали себя почувствовать не только в сугубо негативных оценках великих романтиков — например, Шелли, о котором Элиот впоследствии отзывался куда более объективно. Они сказались и в декларациях вроде той, что поэзии нет дела до эмоции и патетика лишь знак творческой немощности, а «декламирующая личность», именуемая лирическим героем, — смехотворна.
Канонизируя такие высказывания, очень легко было изобразить Элиота принципиальным противником лирического исповедания в любых его формах и приверженцем холодной объективности, которая стремится изгнать из искусства опознаваемо выраженную причастность к заботам и тревогам времени, вообще подменить поэзию деятельностью, скорее приличествующей филологам или реставраторам. Канонизация произошла еще при жизни Элиота; он ей не противился достаточно энергично — в этом смысле ему пришлось разделить вину за те плоские и творчески бесперспективные выводы, которые были сделаны из «Священного леса» недалекими последователями. Однако отсюда еще не следует, что на самого Элиота правомерно смотреть глазами его пристрастных учеников.
Они брали его эстетику как некое готовое знание, тогда как понять ее можно лишь в историческом контексте и в процессе формирования, сопровождавшемся уточнением, а случалось, опровержением мыслей, самим же Элиотом прежде защищавшихся. Споря с Арнольдом, он в 20-е годы отвергал взгляд на искусство как на форму философского мышления, и это поняли буквально, тогда как, по сути, отвергались воззрения, выпестованные позитивизмом и оказавшиеся несостоятельными перед лицом социального опыта, который принесла первая мировая война. Он защищал суверенность поэзии, и в этом почему-то увидели эстетское высокомерие, хотя поэзию надо было защищать и от ревнителей ее прагматически понятой «полезности», и от морализаторов, для которых она не более как подсобный материал, и от классификаторов, лишенных художественного слуха. Если отбросить полемические издержки, Элиот лишь углубил, придав ей заостренную форму, давнюю мысль Флобера: «…художнику не следует выказывать собственные чувства, он должен обнаруживать себя в своем творении не больше, чем бог обнаруживает себя в природе. Человек — ничто, творение — все!.. Я всегда старался вникать в сущность вещей и сосредоточиваться на всеобщем, намеренно отворачиваясь от случайного и драматического. Никаких чудовищ, никаких героев![2]
Теперь подобный взгляд на искусство если не общепризнан, то, во всяком случае, никому не кажется экстравагантным. Но и Флоберу, и полвека спустя Элиоту пришлось со всех сторон выслушивать упреки в посягательстве на самое существо художественного творчества как средства просвещения и воспитания. Обоих уверенно помещали в мифическую башню из слоновой кости, оба узнали скорый и неправый суд, который чинят возмущенные приверженцы доктрин, полагающих, будто поэзия — та же философия, или религия, или этика, или публицистика, что угодно, только не поэзия.