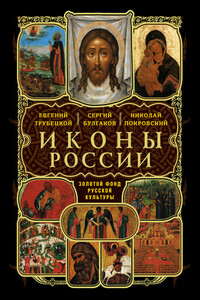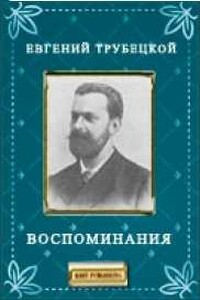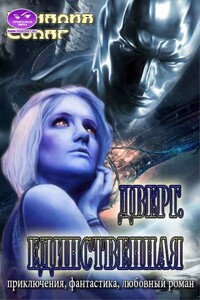“Наша любовь нужна России…”
Зимним вечером 1915 года две молоденькие курсистки впервые переступили порог особняка в Мертвом переулке, где происходило очередное собрание Религиозно-философского общества памяти В. С. Соловьева. Увиденное запомнилось надолго. “…Там, где столик лектора, замечаем величественную фигуру красивой дамы в длинном платье со шлейфом. Многие подходят к ней, почтительно раскланиваются, целуют руку, она приветливо улыбается. Среди подошедших замечаем массивную фигуру уже пожилого человека с явно выраженными монгольскими чертами лица. Дама — хозяйка этого дома, Маргарита Кирилловна Морозова… Она меценатка, субсидирующая издательство “Путь”… Склоненный перед нею в поклоне человек — князь Евгений Николаевич Трубецкой…”
Скажем спасибо молоденькой девушке, запечатлевшей — по наивности или неосведомленности — в словесном портрете стоящими их рядом; другим запомнились: “карельская береза гостиной, прекрасная бронза “empire”, изобилие цветов”; “потрясающе огромные бриллианты в ушах” хозяйки; общая атмосфера “яркого “александрийского” культурного цветения”. Есть портреты, семейные фотографии: Евгений Николаевич — с женой, в окружении детей, рядом с братом Сергеем;
Маргарита Кирилловна — также вместе с детьми, на фоне портрета мужа кисти В. А. Серова; с гостями и сестрой — в саду своего московского дома. Но нет (может быть, все же есть?) фотографии, на которой они стояли бы рядом. Мы так никогда не увидим выражения их лиц в те мгновения, когда встречались их взгляды.
Вполне могло получиться так, что их жизненные пути не пересеклись бы вовсе. Они принадлежали различным сословиям, которые и в начале XX века все еще сохранялись как замкнутые социальные миры. Дед Е. Н., князь Петр Иванович Трубецкой, николаевский генерал и сенатор, не появлялся в присутствии без мундира и золотой шашки “за храбрость”; о деде М. К., Николае Федоровиче Мамонтове, известно лишь, что он был сыном очень богатого откупщика. В то время как отец Е. Н. служил вице-губернатором в Калуге, отец М. К. проматывал родительское состояние в Монте-Карло. Е. Н. женился “по любви” на княжне Вере Александровне Щербатовой, дочери московского городского головы; М. К., “бесприданница”, в восемнадцать лет была “взята за красоту” сыном “потомственного почетного гражданина и Тверской первой гильдии купца”, Михаилом Абрамовичем Морозовым. В 90-е годы Е. Н. профессорствовал в Киеве, писал научные сочинения о средневековом папстве; М. К. бегать по курсам было некогда — да и незачем: она с мужем разъезжала по европейским столицам и средиземноморским курортам, а у себя дома (точнее назвать принадлежавшее Морозовым здание на Смоленском бульваре палаццо) устраивала приемы и балы, на которые съезжались до двухсот человек. Добавим к этому традиционное для России взаимное недоверие благоприобретенного неродовитого капитала и потомственного аристократического оскудения…
Их первая встреча состоялась, по-видимому, в конце мая бурного 1905 года. М. К., к этому времени тридцатидвухлетняя вдова с четырьмя детьми, предоставила свой дом делегатам Всероссийского земского съезда. Роскошные апартаменты, недавно наполнявшиеся артистической богемой, а по торжественным дням — мужчинами во фраках и дамами декольте, принимали новую публику: земских деятелей, либеральную университетскую профессуру. Врубелевская “Принцесса Лебедь” и “Иветта Гибер” Тулуз-Лотрека, должно быть, с недоумением слушали странные речи — о свободе, народном представительстве, конституции. Наверное, и их владелица с не меньшим удивлением слушала выступавших ораторов, в числе которых были братья Сергей и Евгений Трубецкие.
Эпоха “между двух революций” запечатлена многими достойными летописцами — в том числе и теми, кто входил в ближайшее окружение Е. Н. и М. К.; однако ни один из них даже осторожным намеком не обнаружил своей осведомленности в истинном характере отношений, которые связали их жизненные пути и судьбы. Обстоятельство, надо признать, довольно удивительное: ведь в культурной атмосфере “начала века” любовное чувство утратило качество исключительно интимного переживания — любовь превратилась в некое творческое действие, стала культурно и даже общественно значимым явлением. Состояние всеобщей влюбленности, переходящей в “любовь к любви”, замечательно описал В. Ходасевич в статье “Конец Ренаты”, посвященной памяти одной из героинь тех многочисленных любовных драм, что с шумом и надрывом, словно на театральных подмостках, разыгрывались на глазах многочисленной публики. Стремление превратить искусство в жизнестроительный метод, “слить воедино жизнь и творчество”, разрушало границы между романом в жизни и романом в литературе. Воспоминания о той эпохе полны рассказами о любовных историях, страстях и изменах, причудливых треугольниках, о смелых экспериментах, убийствах и самоубийствах — и все это легко, изящно, л и т е р а т у р н о.
Десятилетняя любовная драма, пережитая М. К. и Е. Н., не стала фактом литературы — конечно же, не потому, что осталась неизвестной для окружающих; несмотря на все усилия, предпринимавшиеся для сохранения тайны, это вряд ли было возможно. Развивая намеченную Ходасевичем “типологию любви”, можно сказать, что их роман разворачивался в культурной парадигме века минувшего: переживаемое ими чувство было для своего времени слишком искренно, глубоко, цельно, а главное, оно было слишком подлинно; и в нем отсутствовало именно то, на что XX век предъявлял особый спрос, — собственно л и т е р а т у р н о с т ь, игра, всегда предполагающие зрителя, пусть и единственного. Нельзя сказать, что они остались совершенно невосприимчивы к “ядовитым туманам” и “дионисическим экстазам” русского декаданса (в большей степени им была подвержена М. К.), но если бы им суждено было стать литературными героями, то героями классического романа; об их любовной драме, возможно, смог бы рассказать автор “Былого и дум”. Но классический роман ушел вместе с породившим его веком, а новое столетие просто утратило тот язык, который требовался для такого повествования.