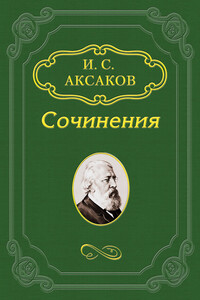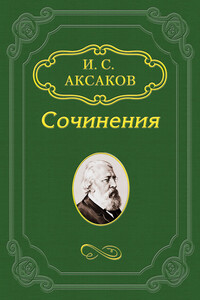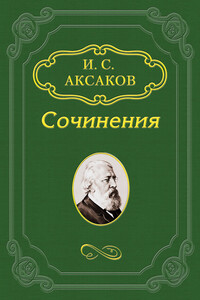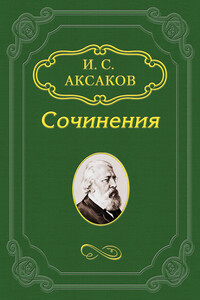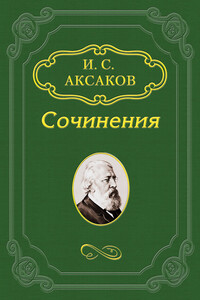Отчего, по-видимому, ты так безобразна, наша святая, великая Русь? Отчего все, что ни посеешь в тебе доброго, всходит негодной травой, вырастает бурьяном да репейником? Отчего в тебе, – как лицо красавицы в кривом зеркале, – всякая несомненная, прекрасная истина отражается кривым, косым, неслыханно уродливым дивом?.. Тебя ли не наряжали, не румянили, не белили? За тобой ли не было уходу и призору? Тысячу прислужников холят тебя и денно и нощно, выписаны из-за моря дорогие учители; есть у тебя и немцы-дядьки, и французы-гувернеры, – а все-таки не впрок идет тебе ученье, и смотришь ты неряхой, грязным неучем, вся в заплатах и пятнах, и, как дурень в сказке, ни шагу ступить, ни слова молвить кстати не умеешь!..
Оттого я так безобразна, отвечает святая Русь, что набелили вы, нарумянили мою красу самородную, что связали вы по рукам и по ногам мою волю-волюшку, что стянули вы могучие плечи во немецкий тесный… кафтан!.. И связали, и стянули, да и нудите: ходить по полю да не по паханому, работать сохой неприлаженной, похмеляться во чужом пиру, жить чужим умом, чужим обычаем, чужой верою, чужой совестью! О, не хольте меня, вы отцы, вы благодетели! Не лелейте меня, вы незваные и непрошеные, вы дозорщики, вы надсмотрщики, попечители, строители да учители! Мне невмочь терпеть вашу выправку! Меня давит, томит ваш тесный кафтан, меня душат ваши путы чужеземные! – Как не откормить коня сухопарного, не утешить дитя без матери, так не быть мне пригожей на заморской лад, не щеголять мне красою немецкою, не заслужить у Бога милости не своей душой!
И действительно, слова «безобразный» и «безобразие» часто слышатся теперь в нашем обществе, когда речь идет о России. И кажется, трудно сыскать выражение более меткое и в такой степени идущее к делу. Болезненно гнетет душу вид этого безобразия; многих точит, как червь, тайное, глухое уныние; но многие же, и едва ли не большая часть, утешают себя соображениями о незрелости и невежестве народа, которому «стоит только просветиться, чтобы сделаться совершенно приличным народом, способным стать наравне с народами чужими»:
Безобразие! Да знаем ли мы, в чем его смысл и сущность? Понимаем ли мы, как много обязаны мы этому спасительному безобразию? В нем, в этом безобразии выражается протест живой и живучей, непокорившейся силы народной; в нем отрицательный подвиг самобытного народного духа, еще хранящего веру в свое историческое призвание; в нем таится великая историческая заслуга, которую со временем оценят благородные потомки!
Многим покажутся наши слова парадоксом, но мы просим их возобновить в своей памяти историю последних полутораста лет. С тех пор, как расстроились отправления цельного организма, нарушилось единство в русской земле, отшиблась память, и взаимное недоверие и непонимание разделило простой народ от служилой и образованной части общества, русская земля подвергалась всякого рода пробам и испытаниям. Как китайские тени в фонаре, сменялись в нашем обществе реформы, преобразовательные и созидательные доктрины, и разные модели, по которым отливались формы для русского народа. Общество снисходительно смотрело на народ, как послушное и годное место, из которого легко вылепить потребную на всякое время фигуру. Но формы были не по народу, все лопались и разбивались, оставляя однако же на нем свои обломки. Вид, конечно, неблагообразный, но чтоб порадовать наши взоры своим благообразием, народу следовало бы поприжаться, съежиться, пожертвовать некоторыми необходимыми для своего существования органами и услужливо уложиться в форму нынче голландскую, завтра шведскую, нынче стать совершенным немцем, а завтра еще более совершенным французом.
Он не стал ни тем, ни другим, он сохранил свою русскую душу, не польстился ни на какие блага, не изменил своей русской природе, – и покрытый лохмотьями иноземных одежд, утомленный борьбою, но не уступивший в борьбе, предстоит перед нами в своем многовещем, громадном, величавом безобразии!
Поясним нашу мысль примером. Было время, и еще недавнее, когда в ходу и в чести были в Европе ремесленные цехи и корпорации, – законный продукт западной истории, спасший автономию и независимость городских общин. Совершив свое историческое призвание, цеховое устройство обратилось в тягость самим общинам, стало быстро клониться к разложению, наконец, при первом удобном случае, в большей части местностей, было вышвырнуто за окно, как ненужная ветошь. Тем не менее самое начало корпораций глубоко засело в плоть и кровь немцев. Мы находились в совершенно иных исторических условиях; цеховое ремесленное и всякое подобное устройство, основанное на формальном, условном, внешнем, принудительном элементе, противно самой сущности духа славянских племен вообще и русского народа в особенности, противно их стремлениям к внутренней свободе жизни, их коренному общинному началу. В наше время защитников средневековой цеховой организации уже не является, но в XVIII веке русское общество, точно так же, как и в XIX, увлекалось внешним благообразием Запада, так же жило чужим умом и верило чужой верой, – и стало вводить в Россию цеховое ремесленное устройство. Дико звучали русскому рабочему люду все эти иностранные названия и слова «альдерманы», «экзамены», «мейстеры», «бюргеры», «магистраты» и «ратуши»; непонятны были ему эти, теснившие его жизнь, «привилегии», это право собираться в «гербергах», которое и поныне читаем в Ремесленном Уставе, эти значки, трости и печати с гербами и всевозможные деления и подразделения, всякие администрации и регламентации. Но требование общества не было какими-нибудь pia desideria, или платоническою мечтою: оно было приведено в исполнение. Молодые доктринеры, передовые люди и прогрессисты того времени, глумясь и потешаясь над упрямством и невежеством русского народа, усердствовали на просторе со всею искренностью непонимания, со всем жаром близорукого убеждения, со всей дерзостью тупоумной благонамеренности. Стоном стояла русская земля, упорно сопротивляясь, – кряхтел русский быт в объятиях прогрессистов, трещал и ломался древний обычай…