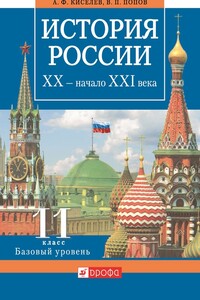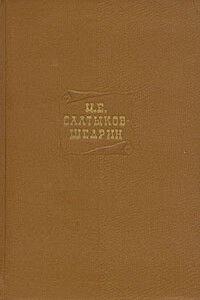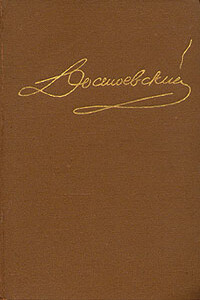Знойное солнце, блестя и играя, рассыпает золотые потоки света по ясной лазури. Набежит иногда тучка, и еще ярче и радостнее выплывает оно, точно омытое ее жемчужным, прозрачным покровом. А сама куда-то дальше летит, от всех втайне держа свой путь. И небо глубокое, и тучка-суета смотрятся в безмятежную, катящую тихими струями, Волгу. Далеко разлилась она и, кажется, где-то с небом встретилась, потонув в голубом тумане. Золотистые волны ее переливаются в горячих лучах солнца. Иногда рыба всплеснет, и долго стоит звук в глубоком молчании дня. Зеленою стеной придвинулся к реке лес, обнажая песчаные, угрюмые овраги. Там тишина; устал он шуметь и поник в сладкой истоме; каждая травка приклонилась к земле и не может вдоволь насладиться своим покоем. Иногда пролетит пчела, прожужжит золотыми крыльями и усядется в чашечку яркого, душистого цветка. А тишина глубже, безмятежнее; точно все застыло под лаской ярких, жгучих лучей. Иногда, рассыпаясь серебром, подбегала волна к самому берегу, будто баюкая старый лес, и с таинственным шепотом дальше бежала, сливаясь с голубым покровом реки.
К самой воде сбегает зеленая полянка. Плохенькое деревенское стадо разбрелось по ней, мелькая между кустами и изредка нарушая тишину бряцаньем бубенчиков. По колено в воде, мерно махая хвостом, стоят коровы; в глубокомыслии остановился бык и посоловелыми главами осматривает свой гарем; по склону разбрелись овцы; несколько лошадей жадно щиплят траву. Под развесистой, угрюмою елью, весь спрятанный ее мохнатыми ветвями, лежит Ванька-пастух. На вид ему лет двенадцать. Черные кудрявые волосы окружают худенькое, бледное лицо, на котором горят, как два уголька, такие же черные глаза. Короткая рубашонка и штаны прикрывают его тело, ворот расстегнулся, и глядит оттуда загорелая, худая грудь, говоря о невеселом житье его. Но здесь Ваньке хорошо. Все лучшие минуты его жизни прошли в этом заповедном лесу. Здесь он — желанный гость; каждый кустик, каждое дерево знают его; он любит их, заботится, а за это и его здесь любят. Прошепчет ветер, закачаются вершины, а Ваньке кажется, что они ему говорят что-то ласковое, доброе; запоет птичка, и он знает, что она для него поет, ему рассказывает, потому что кому же нужна была ее песня, как не Ваньке, который с такою любовью слушал ее. Он все к себе применял. Никто от него здесь зла не видел, никто и Ваньке горя не принес. Много ему и волна рассказала, а он добавил своей детской смелою фантазией и понял остальное. То думается ему, что она рассказывает, как утонул бедный мужик, как она обняла его и унесла своим быстрым течением от родного пепелища. Никто-то над ним не поплакал, никто панихиды не отслужил. А то кажется, что водяной зовет Ваньку в свое подводное царство. И многое, многое другое представлялось его праздному воображению. Стадо далеко разбредется, а он и не замечает, — все думает свою бесконечную детскую думу. Смотрит на небо: оно — задумчивое, тихое — особенно его привлекало. В глубокой синеве коршуны парят, ласточки реют, и летят его мысли так же прихотливо, как они. Пронесется чайка, блеснув белоснежным, серебристым крылом, проскользнет по поверхности реки, схватит рыбу, огласив свою победу громким криком, и вздрогнет Ванька, — этот крик выводит его из волшебного, чарующего мирка. А кругом тишина, глубокая как небо. Прислушивается к ней Ванька и старается уловить каждый звук. Вот что-то дрогнуло, застонало вдали, что-то заунывно понеслось в безмятежном молчании дня: это бурлаки застонали свою песню. Много раз Ванька слыхал ее; он даже полюбил ее грустный, однообразный напев, но всякий раз ему становится что-то не по себе. Думает он о бедняках, об их суровой жизни, и о себе думает. А песня все льется.
«Дернем, подернем… Давай, поддавай» — звучит рыдающий припев, и вместе с ним летит дума Ваньки. Так проходили летние долгие дни. Он с счастливым сердцем встречал начало дня, наблюдал его полное течение и с восторгом провожал на ночной отдых, когда, сияя багровым светом, словно купаясь и нежась в реке, гасли последние лучи. А затем наступала тихая летняя ночь, которая любила Ваньку и ласкала его.
Только что сгонит он стадо в деревню, забежит домой взять несколько объедков и — снова назад на Волгу, где, случалось, проводил целую ночь. Сначала ему доставалось за это, даже били его, но потом, ругнув крепким словом, махнули рукой. С тех пор он стал свободен.
В эти тихие ночи Ванька был еще счастливее. Ни звука в воздухе, — только волны переливаются. Небесный свод горит звездами, ясные — мерцают они, будто чьи-то бесчисленные очи. И опять кажется Ваньке, что они на него смотрят, ему мигают. Иногда облака протянутся серебристою вереницей. Он не может оторвать глаз от небесного покрова. Вот где-то звезда понеслась огненною стрелой, блеснула на мгновенье и потонула во мгле.
«Куда улетела? — думается ему. — Это ангелы божьи играют и звездами перекидываются. Бабы мне кинули», — фантазирует он и самому смешно делается, как это он, Ванька-пастух, захотел, чтоб ангелы вспомнили о нем. Он счастлив, что они позволяют ему хоть издали смотреть на их забавы. Вообще вид неба особенно наводил его на размышления. Думал он о Боге, святых и об их счастливой жизни. Иногда в этих бесконечных думах Ванька доходил до такого состояния умиления, что в слезах изливал полноту своей души. Любил он смотреть, как тихо, величаво выплывал из-за реки месяц, покрывая ее блестящей, золотою парчой. Светлая, дрожащая лента ложилась на ее поверхности.