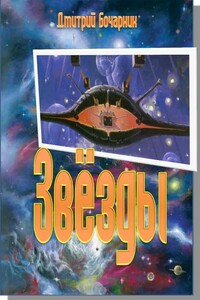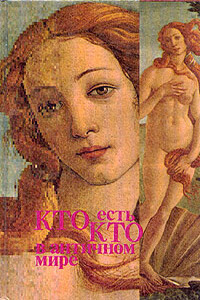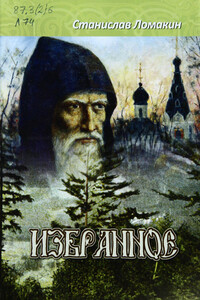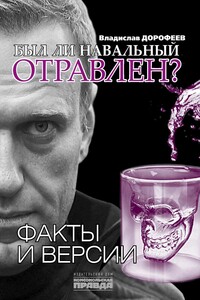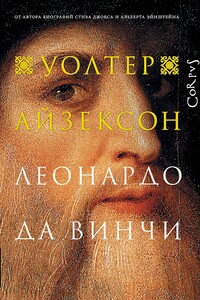Работая над романом «Бабий Яр», я подсчитал, что за два года немецкой оккупации Киева к своим четырнадцати годам я совершил столько преступлений, что меня надо было расстрелять двадцать раз. Об этом в романе есть глава: «Сколько раз меня нужно расстрелять?»
По немецким приказам того времени, например, грозил расстрел за выход на улицу после шести часов вечера. Многих застрелили. И я выходил, но не попался на глаза патрулям, мне повезло.
Был другой приказ, процитирую его:
Все имеющиеся у штатского населения валяные сапоги, включая и детские валенки, подлежат немедленной реквизиции. Пользование валяными сапогами запрещается и должно караться так же, как недозволенное пользование оружием.
То есть расстрелом. Но я валенок не сдал, иначе бы не в чем ходить, и две зимы носил, за каковое пользование меня и теоретически и практически надо было казнить, как и за невыдачу еврея, моего приятеля Шурки, помощь беглому пленному дядьке Василию, неявку на регистрацию в четырнадцать лет, побег от угона в Германию; наконец, просто за антигерманские настроения.
При этом я не был еще членом партии, комсомольцем, подпольщиком, не был евреем, цыганом, не имел голубей или радиоприемника, не совершал открытых выступлений, не попался в заложники, а был обыкновеннейший, рядовой, незаметный, маленький человечек в картузе. Но, если скрупулезно следовать установленным властями правилам, по принципу «совершил — получай», то я уже двадцать раз не имел права жить.
Далее в романе следовало размышление, которое цензура почти целиком убрала, приведу его по полному изданию «Бабьего Яра», вышедшему теперь на Западе:
Я живу упрямо дальше, а преступления катастрофически множатся, так что я перестал их считать, а просто знаю, что я — странный, но не пойманный преступник.
Я живу почти по недоразумению, только потому, что в спешке и неразберихе правила и законы властей не совсем до конца, не идеально выполняются. Как-то я проскальзываю в оплошно не заштопанные ячейки сетей и ухожу по милости случая, как по той же милости мог бы и попасться. Каждый ходит по ниточке, никто не зависит от своей воли, а зависит от случая, ситуации, от чьего-то настроения, да еще в очень большой степени — от своих быстрых ног.
В книге «Воспоминания» вдова поэта Мандельштама, погибшего в застенках НКВД, пишет, что ее не постигла судьба мужа только потому, что ее выгнали из квартиры, она перестала мельтешить перед глазами и затерялась:
Меня спасла случайность. Нашими судьбами слишком часто управляла случайность, но в большинстве случаев они были роковые и случайно приводили людей к гибели.
Поэт Мандельштам написал стихотворение, высмеивавшее Сталина. Нет, не опубликовал, просто написал. За это страшное преступление он и был убит.
При тоталитарном строе человек вообще не может прожить, не совершая преступлений в том или ином смысле. Или он сопротивляется этому строю, нарушает его свирепые предписания — и тогда он преступник перед строем, или он выполняет, служит строю — и тогда еще хуже, тогда он действительно преступник, против человечности. Что делать старому доброму служаке, если ему приказано травить детей в душегубке? Не травить — сам туда пойдешь. Травить — встает призрак Нюрнбергского процесса…
Все без исключения граждане тоталитарной страны неизбежно должны выбрать из дилеммы одно. Третьего — не участвовать, уйти, отгородиться — не дано; это третье является преступлением, и серьезным, с точки зрения строя, по знаменитому большевистскому принципу: кто не с нами, тот против нас.
Поняв все это, я потому и перестал считать свои преступления и только возношу благодарность Небу, что живой.
В 1948 году мне шел девятнадцатый год. Я написал гротескную пьесу — сатиру на сталинский строй. Там действовали железные Феликсы, они ходили монолитной когортой по идеально прямой линии, состоявшей из сплошных зигзагов, Ленин вертелся в гробу, Сталин хлопал крыльями, народ безмолвствовал и тому подобное.
Стихотворение Мандельштама было обнаружено. Мою пьесу не обнаружил никто. Но интересно, что бы со мной было, случись тогда в нашей квартире обыск по какому-нибудь поводу, — был бы приговор к расстрелу или всего лишь на двадцать пять лет? Пьеса была злая, написанная в упоении, одним духом. Позже я ее сжег.
В комсомол я был принят «скопом», когда учился в балетной студии при Киевском оперном театре. Нас, пятнадцатилетних балетных мальчиков и девочек, привели в райком на бульваре Шевченко и в каких-нибудь полчаса пропустили через приемный конвейер. В 1949 году, на двадцатом году моей жизни, я, кипя яростью, решил, что не буду участвовать в комедии, творящейся вокруг. Снялся с учета в райкоме, сказал, что уезжаю в Хабаровск, получил на руки учетную карточку — и уничтожил ее вместе с комсомольским билетом. Легко решить — не участвовать. Но как?
В 1952 году я работал на строительстве Каховской ГЭС, там проводили 100-процентную комсомолизацию, и я вторично «скопом» оказался в комсомоле. Мы все под диктовку написали заявления: «прошу», «обещаю быть», «выполнять заветы», потому что если все это делают, а ты один нет, то изволь объяснить, а ну объясни, что ты имеешь против…