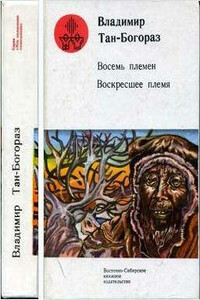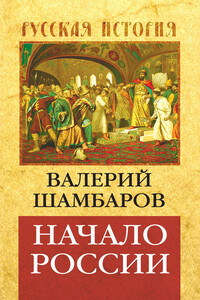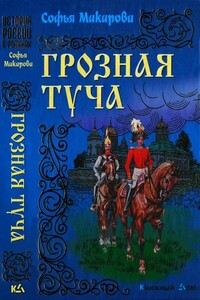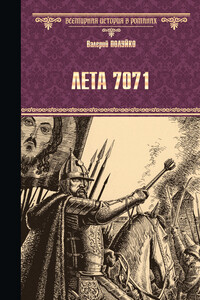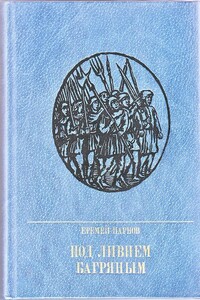Уже третью неделю я проживал на верховьях реки Росомашьей, у восточной границы чукотских стойбищ, протянувшихся длинной лентой вдоль северного края прианюйских лесов, на расстоянии около шестисот километров к востоку от Колымы.
Я только что окончил перепись анюйских чукч, довольно трудную задачу, для исполнения которой мне пришлось истратить немало времени и терпения, и теперь, объехав долгий ряд стойбищ от Колымы до верховьев Сухого Анюя, оставался на одном месте, ожидая прихода последних караванов с Чукотского Носа, направлявшихся к Анюю для обычной весенней торговли.
Ехать дальше на восток было невозможно.
Чаунские жители, ближайшие стойбища которых обыкновенно отстоят не более как на три дневных перехода от границы анюйских поселений, в настоящую зиму удалились далеко в глубь пустыни, "убегая от злого Духа Болезни", по образному выражению чукч. Болезнь эта была одним из обычных на полярном северо-востоке простудных поветрий, которое минувшим летом прокатилось по реке Колыме и теперь медленно распространилось к востоку, переходя от жительства к жительству и с одного горного перевала на другой, постепенно покидая старые районы, для того чтобы захватить новые. И среди чукч она успела выхватить уже не один десяток жертв.
Поэтому чаунские чукчи, не дожидаясь её прихода, поторопились уйти как можно дальше и очистили весь левый берег реки Чауна, чтобы отделить себя от заразы широкой полосой необитаемого пространства.
По словам торговцев-кавралинов[1], недавно проходивших чрез ту землю, самое переднее стойбище отстояло от реки Росомашьей на десять дневных переходов по безлюдной, безжизненной пустыне, лишённой растительности и топлива и ничем не защищённой от свирепого северного ветра, который прилетает с моря.
За Чауном, впрочем, начинался другой округ — Анадырский, или, если угодно, "независимая чукотская землица", по выражению древних актов, — во всяком случае, такая территория, которая к Колымскому округу не принадлежала и не могла подлежать переписной деятельности колымских счётчиков.
Поэтому я перестал думать о дальнейшем путешествии на восток, но и возвращаться вспять не особенно торопился. До ярмарки на Островном, куда я должен был приехать для переписи ламутов, оставалось ещё более месяца, а окружавшие меня люди и условия жизни были исполнены такого своеобразного интереса, какой не всегда можно найти на самых многочисленных стойбищах бродячих народов Колымы.
То были старинные чукотские жительства, занятые ими около двух веков. Население здесь было заметно гуще, чем на западе у берегов Колымы, где чукчи были недавними пришельцами. Жители реки Росомашьей, приезжая в гости на приколымские стойбища, с гордостью рассказывали, что на их родной земле "люди многочисленнее комаров" и "с одного стойбища можно различить дым другого". И действительно, через каждые пять или десять километров можно было увидеть в глубине ущелья или на склоне сопки не дым, а густой белый туман, стелющийся над чёрным лесом, как низкое облако, в знак свидетельства о многочисленном оленьем стаде, рассыпавшемся внизу по моховищу.
Кроме того, в настоящее время между коренными жителями по обе стороны Росомашьей были рассыпаны десятка полтора стойбищ приморских кавралинов. Не обращая особого внимания на заразу, которая как-то щадила этих пришельцев, они вели бойкую торговлю с оленеводами, собирая оленьи шкуры для перепродажи приморским сидячим чукчам и заморским эскимосам и отдавая взамен тюленьи шкуры, кожи моржей и лахтаков, свитки ремней, узкие полоски китовых костей, употребляемые весной вместо подрезов на полозьях, и тому подобные приморские произведения. Пришельцев с Чауна было мало, несмотря на близость анюйской ярмарки. Чаунщики предпочли остаться без чаю и табаку, чем подвергнуться опасности.
Кроме торговых сношений, пришельцы с восточного моря были соединены с коренными жителями множеством разнообразных связей; большая часть из них имела на оленной земле друзей и родственников, которые много лет тому назад променяли голодную жизнь приморского хотника на более обеспеченное существование оленного пастуха.
Иные из этих переселенцев успели расплодить многочисленные стада и считали своей обязанностью оказывать помощь и поддержку каждому пришельцу из далёкой родины. Многие жёны и хозяйки исконных оленных владельцев тоже были родом из приморских посёлков.
Оленные люди охотно выбирали невест между кавралинками, ибо они считались бойчее и неутомимее на всякую работу. С другой стороны, не одна молодая девушка из уединённого стойбища среди анюйских гор, прельщённая удалью и чудесными рассказами одного из вечных "бродяг", покинула свою родную землю, чтобы сделаться полуголодной спутницей "беломорского истребителя моржей"[2].
Кавралины, имевшие родственников-оленеводов, обыкновенно приходили прямо к ним на стойбище, всё время получали от них пищу и, возвращаясь на родину, увозили с собой щедрые дары в виде запаса шкур и живых оленей, которые у восточного моря ценятся гораздо дороже, чем в глубине моховых пастбищ. От них они получали поддержку во время столкновений с другими жителями оленной земли.