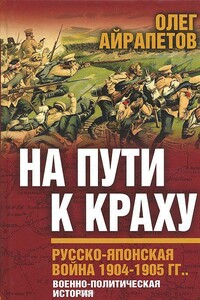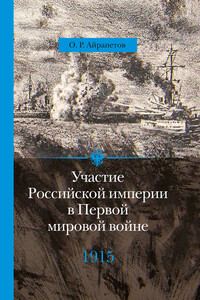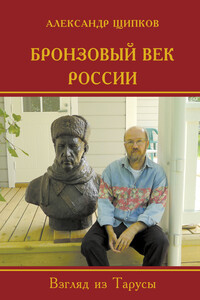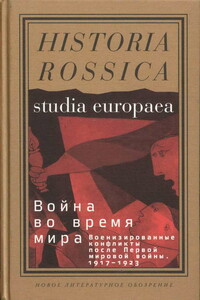В отличие от 100-летия русско-японской войны, ее 110-летие не было отмечено всплеском исследований этого конфликта. Этому есть довольно много причин. Так уж получилось, что история — наука круглых дат. В 2014 году внимание общества прежде всего было сконцентрировано на столетии Первой мировой войны. Впрочем, как показали события весны-лета юбилейного года, этот интерес не был бессмысленным. Борьба за мировое господство по-прежнему остается в повестке дня в некоторых западных столицах, следовательно, актуальной является и сопротивление этой политике, ну а для некоторых, увы, коллаборационизм.
В любом случае, вполне оправданный интерес к событиям 1914–1918 гг., на мой взгляд, не исключает возможности спокойного, вдумчивого отношения к тому, что произошло в 1904–1905 гг. на Дальнем Востоке. И в самой русско-японской войне, и в ее широком международном контексте, и в том, как она отозвалась на внутреннем положении Российской империи — во всем этом есть немало интересного и поучительного.
И для России, и для Японии эта война стала весьма значимым, символическим событием. Страна Восходящего Солнца своей победой над огромной империей, обладавшей первоклассной европейской армией и значительным флотом, завоевала право на вступление в клуб Великих Держав того времени. Кроме того, этот успех дал возможность Токио закрепиться в континентальном Китае(Тайвань был захвачен японцами еще в 1895 г.) и подчинить своему влиянию Корею. Между тем именно защита этой страны была объявлена главной причиной вступления войны в императорском манифесте от 10 февраля 1904 г.: «Неприкосновенность Кореи служила всегда для нас предметом особой заботы, не только благодаря традиционным сношениям нашим с этой страной, но и потому, что самостоятельное существование Кореи важно для безопасности нашего государства»{1}. После войны настало время для других деклараций. Впервые на Дальнем Востоке явственно прозвучал лозунг «Азия для азиатов». Прямым следствием победы Японии стало начало ухудшения японо-американских отношений. «Открытые двери» в японской зоне влияния в Манчжурии начали закрываться и довольно плотно{2}.
Что до Кореи, то самостоятельное существование этой страны перестало интересовать Токио после заключения Портсмутского мира. Как отмечал один из японских авторов, «Корейский полуостров подобен кинжалу, направленному в сердце Японии. Это обстоятельство диктовало необходимость обеспечения безопасности Японии путем установления тесных политических и военных отношений с Кореей»{3}. Говоря более прозаически, в 1911 г. Корея была присоединена к Японии и превратилась в колонию. Очень скоро обладания «корейским кинжалом» оказалось недостаточно. Выйдя из Первой Мировой войны в клубе держав-победительниц, Токио начал целенаправленно готовить свою армию к войне с Советской Россией, а флот — с США{4}. Это был третий после 1894–1895 гг. и 1904–1905 гг. шаг по пути движения Японии к 1945 году. Правда, в 1905 г. мало что предвещало, насколько трагическим станет финал этой истории.
Для императорской России события 1904–1905 гг. на Дальнем Востоке также станут первым признаком начала конца. Ничем другим столь скандально проигранная война и не могла закончиться. Еще в 1811 году Н. М. Карамзин отмечал, что «…для твердого самодержавия необходимо государственное могущество»{5}. Такой консервативный критик власти, как К. Н. Леонтьев, еще накануне гибели Александра II описал задачу ближайшего будущего как «подмораживание». В правление Александра III твердое самодержавие демонстрировало своим подданным способность к холодному очарованию величия, как и могущество без крупных военных конфликтов. Надо отметить, правительство делало это не без успеха. Сам император был твердым сторонником неограниченного самодержавия, и не намерен был уступать даже главному хранителю этой идеи и своему наставнику — К. П. Победоносцеву{6}.
1880-е годы были временем окончательного разгрома народнического движения, апогеем политического «умиротворения»{7}. «За 13 лет, — отмечал лидер земских либералов Ф. И. Родичев, — с 1881 по 1894 год, общественная жизнь, движение мысли шли понижаясь. Попытки сговора земских людей делались все реже и реже, все малолюднее были собрания реформистов»{8}. Результат, казалось, был обнадеживающим. «В широком обществе, — вспоминал один из лидеров либерального лагеря начала XX столетия В. А. Маклаков о настроениях в 80-е годы XIX века, — Самодержавие еще хранило свое обаяние. Не за реформы, которые оно провело в 60-х годах, а за то, что олицетворяло в себе народную мощь и величие государства. Монархические чувства в народе были глубоко заложены. Недаром личность Николая I в широкой среде обывателей не только не вызывала злобы, но была предметом благоговения»{9}.
Этим словам можно доверять, но реальная картина, конечно, не была столь радужной. Творцы этой политики были уверены в том, что лучше других понимают Россию и опасаться на фоне столь очевидных достижений нечего. «Комизм таких детских понятий, если они долго будут руководить политикой, — отмечал в январе 1882 г. консервативный славянофил К. Д. Кавелин, — может, наконец, обратиться в трагедию самого печального свойства»