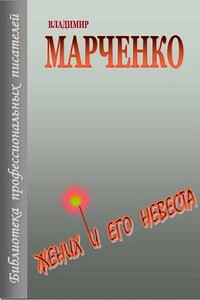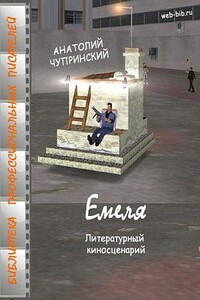В конце весны 1977 года я не по своей воле вернулся в Лондон. Около двух лет я слонялся по континенту, зарабатывая на хлеб концертами и наслаждаясь жизнью. Мои выступления имели успех: я хороший гитарист, неплохой певец и обладаю внешностью, привлекающей бумажники туристок.
К сожалению, «наслаждение жизнью» ограничилось романом с Катриной, пухленькой дочерью Гамбургского банкира. В мае мы с ней разошлись. Не было ни слез, ни ссор, ни разочарований, она даже ничего не сказала о том головорезе, с которым она была помолвлена до меня. Мне бы хотелось, чтобы она его упомянула.
Он последовал за мной в Амстердам, напал на меня, расколотил мою гитару, кинул обломки в канал, а потом зашвырнул меня следом. На следующий день прибыл их семейный адвокат и увез его обратно в Гамбург, обязав заплатить штраф меньше чем в полсотни гульденов за бросание мусора в канал, а меня арестовали за бродяжничество, как только я выбрался на сушу. К полудню они забрали мой паспорт и посадили меня на поезд до Влиссингена, чтобы я провел там замечательную ночь в тюрьме, дожидаясь утреннего корабля обратно в Англию.
Мне бы очень хотелось, чтобы она его тогда упомянула.
Не то чтобы мне сильно не хотелось уезжать: у голландцев в тюрьмах не было нормальных кроватей, только голый пол с намеком на матрас в углу. Я был не против уехать.
Проблема была в том, что я возвращался в Англию без денег, планов на будущее, и, что самое главное, без гитары. Я был привязан к этой гитаре, она принадлежала еще моему дяде Льюису, а теперь ее обломки медленно дрейфовали по направлению к Мировому океану.
Потом Рашем сказал мне:
«Холодный дождь должен идти,
Чтобы нести тебе бодрость и силу.
Ты должен чувствовать страшную боль,
Чтоб сильнее ценить покой».
Если бы он сказал мне это тогда, я бы сломал ему нос.
Весь следующий день я плыл в родную Англию. Утром я сел на холодный металлический стул на передней палубе, и сделал вид, что напряженно думаю, но в основном я просто смотрел. Смотрел на серое небо. Смотрел на еще более серое море. Смотрел на птичий помет и пятна ржавчины на палубе. Потом я открыл свою сумку и смотрел на кусочки моей гитары. На ней, бедняжке, больше никогда не удастся сыграть, но если у меня когда-нибудь будет собственный дом, я повешу ее останки над камином.
Собираясь снова уставиться в небо, я почувствовал, что на меня тоже кто-то смотрит. На поручнях, рискуя свалиться в воду, сидел ямаец, и его дреды развевались на ветру. Я обнаружил, что мы некоторое время смотрим друг другу в глаза.
Не то чтобы я никогда не видел растаманов, я много с ними тусовался, потому что у них был самый лучший гашиш, но этот превзошел их всех. Его глаза были похожи на черное вулканическое стекло, оправленное в слоновую кость. По правилам английского этикета мне надо было как можно быстрее отвести от него взгляд, но я не мог. Может быть, я слишком много времени провел в странах Северной Европы, но ямаец казался мне чернее черного.
Потом он… улыбнулся? Его губы раскрылись, его щеки натянулись, он обнажил свои зубы. Я понадеялся, что это была улыбка. Вместо ответа я улыбнулся тоже, а он откинул голову назад и стал хрипло смеяться. Я воспользовался шансом отвести взгляд, а когда я снова посмотрел туда, его там уже не было. Сначала я подумал, что он упал за борт, но когда я огляделся, чтобы позвать на помощь, то увидел его, прогуливающегося по палубе и напевающего что-то тем же хриплым голосом. С огромным облегчением я погрузился обратно в свои проблемы.
После полудня я пересел на свободный стул в трюме корабля и стал думать, что я буду делать, когда паром прибудет в Англию. Восстановлю свой паспорт и вернусь на континент? Заманчиво, но неосуществимо. Пока я не буду иметь достаточно денег, чтобы заплатить штраф и за проезд, я завязну в Англии.
Остаться в Ширнесс или в Гиллингеме? В Гиллингеме? Серьезно…
Добраться до Бирмингема и сесть на шею родителей? Я мог так поступить, но либо папа побьет меня за потерянную гитару своего брата, либо мама мне еще раз скажет, что я такой же ни на что не годный прожигатель жизни, как и дядя Льюис.
Я не нашел лучшей идеи и уже приготовился разыграть возвращение блудного сына, когда одна-единственная противная мысль решила дело. Мать всегда относилась к гитаре как к родной сестре героина. Конечно же, она встретит меня с распростертыми объятиями, потому что я наконец от нее избавился.
Оставался Лондон. Если тебе некуда пойти, поезжай в Лондон, говори людям, что ты музыкант и живи на пособие по безработице. Даже в Лондоне со мной бы это не прокатило. В мои неполные двадцать пять я все еще носил драные джинсы и длинные волосы, а мои музыкальные вкусы склонялись к американскому ритм-н-блюзу, который опять вышел из моды (британские меломаны не имеют соперников в непостоянстве, если не считать итальянской богатой наследницы, встреченной мной на Майорке) Но у меня было несколько приятелей, который я мог бы найти на Фонтхилл-роуд.
К тому времени, как паром причалил, у меня был в голове набросок моего будущего. Я обменял мои последние гульдены на фунты и пенсы, умыкнул экземпляр «Time Out» с новостного стенда и отправился голосовать на шоссе. Через два дня я добрался до Лондона. По пути я обменял свои наименее драные джинсы на камуфляжные штаны, постриг волосы, одолжив ножницы, и сменил имя на Стиг Боллок.