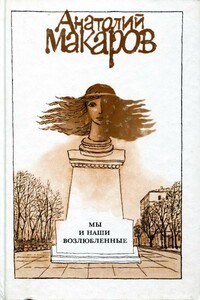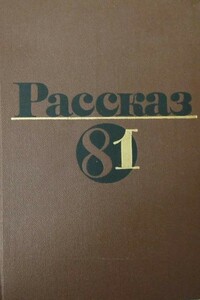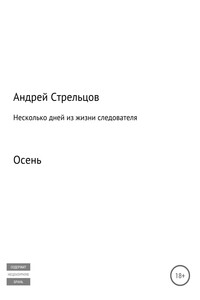МЫ И НАШИ ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ
Повесть
Я люблю возвращаться в Москву. Где бы ни носило меня, в каких благословенных или заповедных краях, как бы удачно ни сложилась командировка с ее бесшабашным и безответственным гостиничным бытом, с дружбой, внезапной, как любовь, и с любовью, похожей на откровенную дружбу, в момент прощальных поцелуев я уже прикидываю вполне хладнокровно, как увлекательно будет обо всем этом вспоминать и рассказывать, и чувствами своими, даже физическими ощущениями стремлюсь домой. Почему-то всегда кажется, что в Москве за время моего отсутствия случилось множество событий, связанных со мною непостижимым образом, так что возвращение мое окажется как бы их закономерным волнующим итогом. Можно сказать — разрешением. Где-нибудь в барнаульском или новосибирском аэропорту я подымаюсь в нутро турбореактивного самолета, в котором давно уже различаю вовсе не чудесные, не звездные, а, напротив, вполне домашние черты, почти как в соседской подлатанной «Победе», не дожидаясь приглашения, застегиваю машинально ремни — бравада бывалого авиапассажира давно пройденный мною этап, — сую за щеку приторный взлетный леденец, облепленный кусочками обертки, и со смирением фаталиста закрываю глаза. Странное дело — в уютных купе ночных поездов, под канонический перестук колес, меня изводит бессонница, а в самолете, перетянутый поперек живота брезентовым ремнем, зажатый меж вспотевшими соседями в кислых полушубках и бобриковых пальто, с затекшими ногами и онемевшей шеей, я прекрасно сплю и под обиженный плач непременного младенца, и под гул турбин. В момент сладостного первого посоловения, как и в момент брезжущих сполохов сознания, представляю себе всякий раз, что нахожусь в автобусе. У которого поразительно мягкий, плавный, поистине заоблачный ход.
Потом, когда в Домодедове или Быкове я усаживаюсь в самолетное кресло громоздкого автобуса, легкий озноб пережитого волнения не покидает меня. Я уже не сплю, даже ночью, я пялю глаза на проплывающую за окнами Москву, с тайным патриотическим удовлетворением замечаю перемены — новые кварталы, отдельные дома, попадающие отчасти под категорию небоскребов, и мерцающие кресты отреставрированных церквей. На Садовом кольце, возле ампирных Провиантских складов, я ловлю такси и направляюсь к себе на Юго-Запад все в том же состоянии благодушной элегичности, отмечая встречные переулки, словно вехи собственной биографии, — можно подумать, что командировка моя длилась не две недели, а по крайней мере год.
Это блаженство возвращения, приятная горьковатая нервность длится еще некоторое время, до тех пор, пока я не выхожу из ванной. В махровом халате, насмешливо оценив собственные потуги на джентльменский образ жизни, я усаживаюсь в крутящееся немецкое кресло и с холодной очевидностью понимаю, что ничего не произошло. Мое возвращение осталось незамеченным. Точно так же, как и мое отсутствие. Я мог и впрямь пропасть на целый год, это никого бы не обеспокоило, разве что бдительное руководство нашего кооператива. Молчит мой телефон. Я смотрю на него завораживающим взглядом укротителя, но он молчит. Лет пятнадцать назад, когда я жил в коммуналке, заселенной с неумолимым рационализмом, так, чтобы не пропадал втуне ни один метр полезной площади, целый день трезвонил висевший на стене довоенный эриксоновский аппарат, и каждый второй звонок был мне.
А теперь я живу в отдельной однокомнатной квартире, о которой грезят столько холостых мужчин и одиноких женщин, на письменном моем столе стоит лично мне принадлежащий, ни с кем не спаренный телефон, добытый хотя и честным путем, однако с помощью многих интриг, неопределенных намеков и посулов, — стоит и безмолвствует. Иногда, после редакционной суматохи, это бывает даже приятно: меня никто и ничто не отвлекает, и я могу спокойно сесть за стол, сознание ненарушаемости творческого покоя льстит мне и вдохновляет, однако наступление субботнего вечера понуждает меня время от времени бросать на телефон взгляды, исполненные неясной надежды, которая заставляет меня краснеть. В одиночестве, даже никому не заметном, есть что-то неловкое и стыдное.
Вот чувство, которое неизменно вытесняет собою в последнее время радость возвращения. Как это случилось, как распался круг моих друзей, столь тесный когда-то, откуда взялась вокруг меня эта глухая и безмолвная, как туман на море, неизвестность? Никогда в жизни я не знал такого количества людей, как теперь, число знакомств растет с каждым днем, я могу пройти по центральным улицам, раскланиваясь, словно конферансье, направо и налево, одиночество от этого лишь обостряется. Знакомые — это вымороченные персонажи, они заполняют записную книжку, а не душевную пустоту. Что из того, в самом деле, что память хранит сотни лиц, имен, фамилий, характерных примет, подходящих тем для ничего не значащей болтовни, острот, последних анекдотов, сведений деликатного свойства, — я приехал, я прилетел бог знает откуда, я целый месяц мотался по дорогам Сибири и Алтая, и никто не ждал того момента, когда я вновь появлюсь в Москве, никто не позвонит мне просто так, спросить, как дела. Только и всего — как дела?