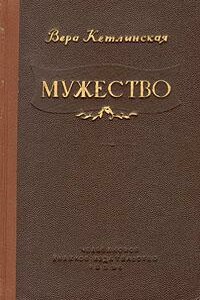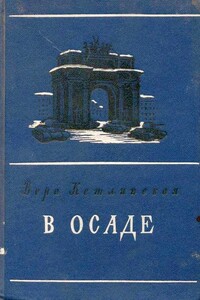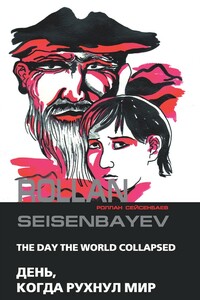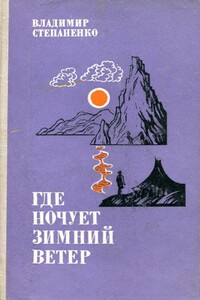Паровоз пересекал бескрайные поля, покрытые туманом весенних испарений.
У Сергея Голицына было странное ощущение неповторимости всего, что он видит и делает. Паровоз на замедленном ходу проходил мост, и Сергей думал, что уже не услышит больше гудения металлических пролетов. Он оглядывался назад, на длинный товарный состав, и знал, что для него уже не будет извиваться цепь красных вагонов и платформ, что он не услышит тяжелого стука нагруженных вагонов и бойкого тарахтения порожняка. Он протирал на стоянках движущиеся части (то, что на языке паровозников кратко называется «движением») и физически чувствовал, что каждое прикосновение – последнее, и знакомые зазубринки уж не попадутся на глаза, и вот эту промасленную тряпку возьмут завтра другие, чужие руки. Он слышал голос своего отца, старого машиниста Тимофея Ивановича, и грусть расставания сдавливала горло: в последний раз звучат стариковские прочувствованные речи, завтра уже не поговоришь и не посмеешься с отцом и кто-то другой будет слушать притихшего старика.
– Тридцать шесть лет езжу, а все в этих местах, – говорил Тимофей Иванович, и сын без усилий понимал его в привычном грохоте машины. – И какие такие дороги в Сибири – не знаю, не пробовал. А была у меня большущая охота. Еще когда провел Николка дорогу в страну Маньчжурию, в порт Владивосток, я сразу задумался – махнуть бы туда… Интересно! Новые земли. Новые люди. Небось и говорят не по-нашему… свой у них язык, монгольская раса.
Кочегар Свиридов прислушивался, улыбался. Он, наверное, знал об этом больше Тимофея Ивановича и больше Сергея, – неизвестно, откуда брались у него сведения обо всем на свете.
Голос у Тимофея Ивановича был немного надтреснутый. Сергею казалось, что у отца в горле маленькие трещинки. Ему было до боли грустно, но он снисходительно усмехнулся и подмигнул Свиридову – чудак все-таки старик!
– У меня не вышло. А ты съездишь по отцовской мечте – расскажешь. И смотри хорошенько, примечай, вдумывайся. С хорошими людьми знакомство заводи, не стесняйся. От интересного знакомства всегда польза, обогащение личности.
Сергей сам вызвался ехать – его привлекали Дальний Восток, строительство, самостоятельность, проба своих сил, – но теперь вся заманчивость поездки забылась перед горечью близкой разлуки.
– Куда еще запрячут нас, – хмуро сказал он. Старик промолчал, высунулся в окошко. Он знал здесь каждую извилину пути и каждый кустик по краю полотна. Он мог бы вести поезд с закрытыми глазами, по чувству. И молчал просто для того, чтобы подумать. – Вот я вспомнил большие слова, – сказал он строго и продекламировал, торжественно подняв заскорузлый палец:
В дни бедствия я знаю, где найти
Участие в судьбе своей тяжелой.
Чего ж робеть на жизненном пути?
Иду вперед с надеждою веселой.
Вот так и тебе надо. Идти вперед с надеждою веселой. Да и то сказать, какая нынче может быть тяжелая судьба! Теперь судьба легкая. Вот только не оперился ты еще…
Сергей обиженно хмурился. «Не оперился еще»… Двадцатый год, помощник машиниста, а все не оперился!
Приближались к станции. Семафор задержал их. В окошко ворвался душный запах талой земли. Старик с ненавистью поглядел на станцию:
– Определенно на запасную загонят. Эта мне Кизиловка! Вечный простой…
Загнали на запасную. Тимофей Иванович молодо соскочил с паровоза и побежал ругаться с дежурным.
Сергей привычно, по заведенному правилу, протер «движение», привычно закурил от уголька папиросу, сел на ступеньку. Свиридов, как всегда, стоял рядом, но разговор не завязался: разлука чувствовалась уже так остро, что и слова не находились. И эта ступенька, и проклятая Кизиловка, и воркотня отца, и папироска, прикуренная от уголька, – ничего этого уже не будет…
Пришел отец. Полез на паровоз и долго возился там, ворча. Потом успокоился, закурил трубочку, сел на верхнюю ступеньку и только тогда вернулся к прежним мыслям.
– Да, вот так-то, сынок! Чего ж робеть на жизненном пути? Робеть никогда не надо. А ты знаешь, кто эти слова сказал?
Он с хитрецой покосился на сына. Сергей равнодушно смотрел в сторону.
– Не знаешь. А сказал это поэт Баратынский. В стихотворении под названием «Дельвигу». А Дельвиг, знаешь, кто был? Тоже поэт, Александру Сергеевичу Пушкину современник…
Не желая показаться неучем, Сергей передернул плечами и небрежно бросил:
– Как не знать! Он еще застрелил Пушкина на дуэли.
Тимофей Иванович даже затрясся весь, даже покраснел от гнева. И сын, поняв свою оплошность, тоже покраснел и оглянулся. Кочегар Свиридов стоял над ними, посмеиваясь.
– Дельвиг Пушкина застрелил! – восклицал старик, совсем расстроившись. – Дантес убил: Дантес-Геккерен, прощелыга, вертопрах проклятый! Ну, чему вас учили? Спутать Дельвига с Дантесом!
Сергей метнул на улыбающегося Свиридова сердитый взгляд, огрызнулся:
– Подумаешь, несчастье. Это мне и знать не к чему, – и уже смущенно добавил: – Всего не упомнишь… фамилии-то похожие.
Мимо, обгоняя их, прошел пассажирский скорый. Тимофей Иванович недружелюбно посмотрел ему вслед, вздохнул и сказал не то о поезде, не то о знаниях сына:
– Никуда это не годится.