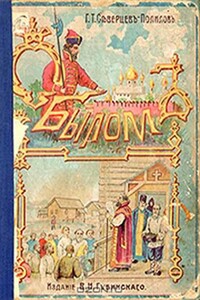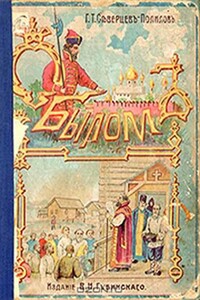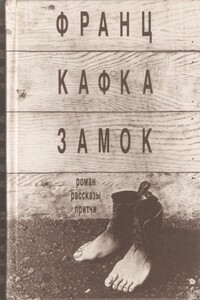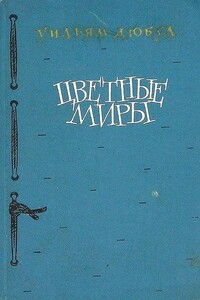Несколько лет назад под вечер в Осорно[1] приехали монахи-капуцины: они собирались наставлять в истинной вере местных жителей.
Монахов было шестеро, все — настоящие мужчины, бородатые, крепкие, лица энергичные, жесты вольные.
Бродячая жизнь наложила свою печать на этих вечных странников, и они ничуть не походили на монахов других орденов.
Тела шестерых бородачей закалились в постоянном соприкосновении с дикой природой юга во время долгих переходов через сельву, под яростными порывами ветра и проливными дождями, а лица утратили торжественную неподвижность, свойственную тем, кто проводит свои дни в тепленьком уединенном уголке уютного монастырского дворика.
Случай свел их в Вальдивии[2], куда они приехали кто откуда: из Анголя[3], из Ла-Империала[4], из Темуко[5]; и уже все вместе они продолжили путь до Осорно, где целую неделю должны были исполнять свои миссионерские обязанности, а потом снова разъехаться по дорогам сельвы, неся слово евангельской проповеди.
Было их шестеро, все — настоящие мужчины, все бородатые.
Особенно привлекал внимание отец Эспиноса, ветеран миссионерской деятельности на юге, сорокапятилетний мужчина, высокий, крепкий, с виду — деятельный, добрый и деликатный.
Был он из тех монахов, которые очаровывают некоторых женщин и нравятся всем мужчинам.
Самая обычная голова под шапкой таких черных волос, что по временам они даже отливают синевой, как перья у дроздов. Матовое смуглое лицо, скрытое пышной бородой, и капуцинские усы. Широковатый нос, яркий, свежий рот, черные блестящие глаза. Под одеждой угадывалось легкое мускулистое тело.
Жизнь отца Эспиносы была увлекательна, как жизнь всякого человека действия, как жизнь конкистадора, главаря разбойников или партизана. И от каждого из них было что-то у отца Эспиносы в его манере держаться, и ему в самый раз подошли бы воинские доспехи первого, плащ и конь чистых кровей второго, защитное обмундирование и автоматическое оружие третьего. Но хоть он и походил на всех троих, и, казалось, в определенных условиях мог бы стать любым их них, был он совсем иным и резко от них отличался. Он был человеком чистой души, понимающим других людей, чутким, и вера его была пламенной и деятельной, а дух, чуждый всему низменному, был исполнен религиозного рвения.
Пятнадцать лет разъезжал он по местам, где жили индейцы-арауканы[6]. Он наставлял их в вере, а они души в нем не чаяли. И спрашивал он, и отвечал им всегда с улыбкой. Словно бы всегда говорил с такими же чистыми душами, как он сам.
Таков был отец Эспиноса, монах-миссионер, настоящий бородатый мужчина.
* * *
На другой день все уже знали о приезде миссионеров, и разнородная толпа, постигающая основы катехизиса, заполнила первый двор монастыря, в котором должна была проводиться миссионерская неделя.
Сельскохозяйственные и фабричные рабочие, индейцы, бродяги, сплавщики леса — все сходились сюда в поисках евангельской проповеди миссионеров, в надежде на нее. Бедно одетые, в большинстве своем босые или же в грубых охотах, кое-кто в одних рубахах да штанах, грязных и рваных от долгой носки, с отупевшими от алкоголя и невежества лицами; вся неопределенная фауна, выбравшаяся из соседних лесов к городских трущоб.
Миссионеры привыкли к своей аудитории и не оставались в неведении того, что многие из этих несчастных приходили сюда, не столько желая обрести истину, сколько в надежде на их щедрость; но священнослужители за время своего миссионерского служения привыкли уже раздавать еду и одежду самым голодным и оборванным.
Весь день напролет трудились капуцины. Под сенью деревьев или по углам двора сгрудились люди, отвечавшие, как умели или как их учили, на простодушные вопросы катехизиса.
— Где пребывает Господь?
— На небесах, на земле и повсюду, — отвечали они хором с безнадежной монотонностью.
Отец Эспиноса, который лучше всех владел местным наречием, наставлял в вере индейцев: ужасная задача, способная довести до изнеможения любого здоровенного мужчину, ведь индейцу не только трудно было воспринять суть наставлений, ему мешало еще и незнание испанского языка.
Но тем не менее все шло своим чередом, и к концу третьего дня, когда занятия с причастниками закончились, монахи приступили к исповеди. Группа людей, твердивших основы христианской доктрины, заметно поубавилась, многим ведь уже раздали одежду и еду; но народ все прибывал и прибывал.
В девять утра жаркого ясного дня началось шествие кающихся — они нитью тянулись от двора к исповедальням, неторопливо и молча.
Солнце клонилось к закату, и большая часть верующих разошлась; отец Эспиноса в свободную минуту гулял по двору. Он уже возвращался к своему месту, когда какой-то мужчина остановил его, обратившись с просьбой:
— Я хотел бы исповедоваться, отец мой, у вас.
— Именно у меня? — спросил монах.
— Да, у вас.
— Почему же у меня?
— Не знаю. Может быть, потому, что вы старше остальных миссионеров и потому, возможно, самый добросердечный.
Отец Эспиноса улыбнулся:
— Хорошо, сын мой. Если ты этого хочешь и так думаешь, то пусть так оно и будет. Пошли.
Он велел мужчине идти вперед, а сам пошел следом, разглядывая его.