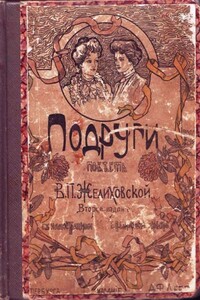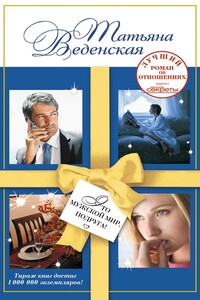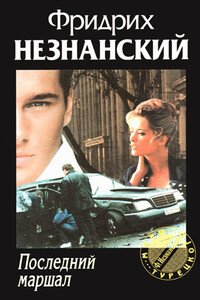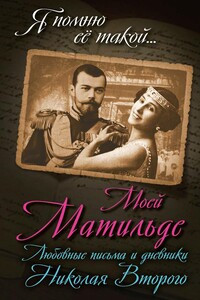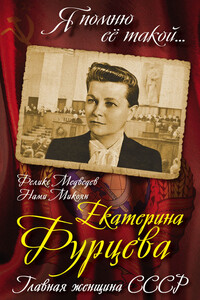Знаете ли вы, дети, как я помню себя в первый раз в жизни?.. Помню я жаркий день. Солнце слепит мне глаза. Я двигаюсь, – только не хожу, а сижу, завернутая в деревянной повозочке, и покачиваюсь от толчков.
Кто-то везет меня куда-то…
Кругом пыль, жар, поблекшая зелень и тишина, только повозочка моя постукивает колесами. Мне жарко. Я жмурюсь от солнца и, лишь въехав в тенистую аллею, открываю глаза и осматриваюсь. Предо мной большой дом с длинной галереей. Какой-то старый солдат, завидев меня, издали улыбается и, взяв под козырек, кричит:
– Здравия желаем кривоногой капитанше!..
Кривоногой капитанше? – ведь это обидно, не правда ли? Я сообразила это позже; но в то время я еще не умела обижаться. Няня вынула меня из повозочки и понесла… купать.
Много времени спустя я узнала, что это было в Пятигорске, куда мама привезла меня лечить и жила вместе с бабушкой и тетями, которые сюда приехали из другого города для свидания с нами.
Мне был всего третий год…
Не диво, что это первое мое воспоминание.
Всякий день моя няня, старая хохлушка Орина, возила меня на воды купать в серной воде; а потом меня еще на целый час сажали в горячий песок, кучей насыпанный на маленькой галерее нашей квартиры. Хотя мне был третий год, и я все понимала и говорила, но не могла ходить. Впрочем, ноги у меня были только слабые, а не кривые, несмотря на прозвание «кривоногой капитанши», данное мне сторожем при купальне. А капитаншей он потому называл меня, что отец мой был тогда артиллерийский капитан.
Воды помогли мне: после Пятигорска я начала ходить.
Пятигорск в XIX веке. Здесь прошло детство сестер Елены и Веры Ган
Не помню, как мы расстались с бабушкой и как ехали домой. Я опомнилась совсем в другом месте, где уже не было родных моих, а все приходили какие-то офицеры, и один из них высокий, с рыжими, колючими усами, называл себя моим папой… Я никак не хотела этого признать: толкала его от себя и говорила, что он совсем не мой папа, а чужой. Что мой родной, – большой папа (мы, дети, так называли дедушку) остался там, – с маминой мамой и тетями, и что я скоро к нему уеду…
Помню, что мама часто болела, а когда была здорова, то подолгу сидела за своей зеленой коленкоровой перегородкой и все что-то писала.
Место за зеленой перегородкой называлось «маминым кабинетом», и ни я, ни старшая сестра, Леля, никогда ничего не смели трогать в этом уголке, отделенном от детской одною занавеской. Мы не знали тогда, что именно делает там по целым дням мама? Знали только, что она что-то пишет, но никак не подозревали, что тем, что она пишет, мама зарабатывает деньги, чтоб платить нашим гувернанткам и учителям.
В хорошие дни мы уходили в сад и там играли с няней Ориной или с Лелей[1], когда она была свободна. В дурную же погоду я очень любила садиться на окно и смотреть на площадь, где папа со своими офицерами часто учили солдат. Я очень забавлялась, глядя, как они разъезжали под музыку и барабанный бой; как гремя переезжали тяжелые пушки, а мой папа на красивой лошади скакал, отдавая приказания, горячась и размахивая руками.
К нам часто приходило много офицеров обедать и пить чай. Мама не очень любила, когда они, бывало, начнут громко разговаривать и накурят целые облака дыма. Она почти всегда сейчас после обеда уходила и запиралась с нами в детской.
Зимою мама стала болеть чаще. Ей запретили долго писать, и потому она проводила вечера с нами. Она играла на фортепьяно, а Антония, молодая институтка, только что у нас поселившаяся, вздумала, шутя, учить сестру танцам. Мне это очень понравилось, и я тоже захотела учиться у нее; но так как я была очень толстая, а ноги все еще были у меня слабы, то я беспрестанно падала, желая сделать какое-нибудь па, и до слез смешила маму и Антонию. Но я не унывала и еще вздумала учить танцевать свою старую няню Орину. Бедная хохлушка никак не могла так повернуть ноги, как я ей приказывала; а я еще была такая глупая девочка, что из себя за это выходила, щипала ее за ноги и жаловалась, что у «гадкой Орины ноги кривые!»