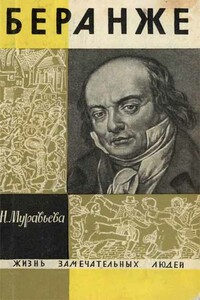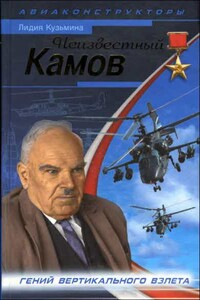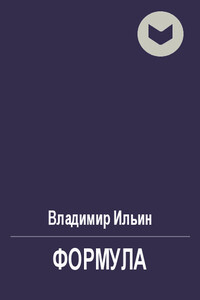Я сидел в одиночестве за столиком в полупустом уличном кафе, медленно потягивая пиво. Желания напиться не было, поэтому я шел на рекорд, растянув одну бутылку на целый час. При такой скорости пития всегда образуется много времени для размышлений. Вот и сейчас я думал, случайно ли из всех возможных столиков я выбрал именно этот, или это шутки моего подсознания. Ведь весь час я переводил взгляд со входа в кафешку, где мог появиться кто-либо из знакомых, на темное окно лестничной клетки третьего этажа дома напротив. Дома, где я живу.
Непростое было это окно, слишком много воспоминаний у меня с ним связано. Поэтому взгляд не скользил по темному блеску стекла, а, взяв на помощь память, проникал внутрь, на заплеванную лестничную клетку. И еще — в прошлое, на пятнадцать лет назад.
Впрочем, прошлое ли? За эти пятнадцать лет я сумел понять только одно: обманул старик Плещеев, нет в этой жизни ни белки, ни свистка. Всё, как было тогда, так и осталось сейчас. Нет, я не про толщину животов и кошельков, я про жизнь. В школьные годы мы, компания оболтусов, считавших себя взрослыми, собиралась каждый вечер на той самой лестничной клетке третьего этажа. И вели казавшиеся нам важными разговоры «за жизнь». Ну и конечно пили пиво. Баночное. Только банки тогда были другими — трехлитровыми из-под соков, наполняемыми до верху разведенным водой пивом в палатке за углом. Ну и было еще что-то, когда мы пускали банку по кругу. Что-то трудно уловимое, что очень редко проявляется сейчас, и чего нам всем не хватает. Может молодость?
Сейчас-то мы совсем другие, — скажет любой из моих друзей. И я даже соглашусь, чтобы не завязнуть в споре. Но что другого в компании оболтусов на четвертом десятке лет, считающих себя взрослыми, и собирающихся каждый вечер в этой кафешке попить пивка и утолить жажду духовного общения кажущимися важными разговорами за жизнь?
И, как в юности мы редко собирались всей компанией, кто-то не мог придти из-за уроков или родителей, так и сейчас всё чаще мои друзья не приходят на встречи из-за дел или семейных проблем. А сегодня, похоже, траектории всех несчастливых планет пересеклись над моей головой — никто так и не появился. Я уж собрался допить одним глотком оставшееся пиво и идти домой, как мое одиночество наконец-то было нарушено.
Темным вихрем в кафешку залетел старый мой приятель Гарик Торосян и, пролетев мимо стойки, подскочил ко мне: — Привет! Ты не суеверен? — выпалил он на одном дыханьи. — Нет, а что? Привет. — Да я тут посчитал — у них бутылка пива и орешки ровно тринадцать рублей стоят. Надеюсь, ты не упустишь свой счастливый шанс покормить голодающего гения из-за каких-то глупых суеверий?
Я усмехнулся его непосредственности и протянул три десятки: — Возьми и мне того же, — вечер начинал становиться интересным. Гарьку я не видел уже месяца три. Тогда он хвастался, что ему осталось чуть-чуть до всемирной известности. Поэтому, когда Гарик вернулся с пивом, я спросил: — Ну и как там твоя известность? — Ха! В том и дело, что моя! И теперь насовсем. Пиши книжку, гуманитарий, «Мои встречи с Торосяном», — за время этой фразы он уже ополовинил свою бутылку, а я успел сделать лишь глоток. — Ну так расскажи, чем прославился, чтоб я мог правдоподобно наврать, как помогал тебе в твоих изысканиях. — Еще не прославился, но уже открыл. У кого б теперь денег занять, загранпаспорт сделать. А то пригласят на получение нобелевки, а я без паспорта. Конфуз выйдет, — на какую из нобелевских премий он нацелился, можно было и не спрашивать. Уже в школе Торосян заслужил прозвище «химик», которое со временем превратилось в профессию. — И что же ты открыл? — Ну что может открыть химик, чтобы прославиться? Конечно же новый химический элемент! — Гарька, брось. Не верю. Я, хоть гуманитарий, но в курсе, что сейчас новые элементы открываются большими коллективами. И с помощью синхрофазотронов и других хитрых устройств. Только не говори, что в твоем НИИ, где пробирок не хватает, вдруг завелась крутая техника. — Ромка, да ничего ты не понимаешь! Ты даже не представляешь, что я открыл! Вопрос на засыпку: у какого элемента в периодической таблице два места? — Как два места? Не может такого быть! Я по школьному курсу, слава Богу, помню, что они идут все по очереди, и у каждого свой номер. — Номер-то и у этого элемента один. А рисуют его в разных местах. Ну, вспоминай! — Подожди, ты про водород что ли? Это я еще помню со школы. Там дело в том, как помнится, что первый период короткий. Поэтому водород можно считать и первым, и предпоследним. Вот и рисуют по-разному. — «Садись, Рома, пять», — попытался передразнить Гарик голос нашей химички. Голос не получился, а вот с интонациями он настолько попал в точку, что я даже представил учительницу, сидящую напротив меня вместо Торосяна. И невольно улыбнулся: настолько образ чопорной дамы не вязался с видом моего окосевшего приятеля, — Хорошо тебе, гуманитарию. Заучил пару книжек наизусть — и уже умный. А нам, технарям, думать приходится. Знал бы ты какие войны шумели в химии век назад!
Кто-нибудь, кто знает Гарьку хуже меня, обиделся бы на такие выпады в свой адрес. А я лишь усмехнулся, истоки его агрессивности мне хорошо известны. В школе Торосяну не повезло дважды: он был отличником и малышом. Мало того, что он выглядел года на два моложе своих одноклассников, из-за чего очень переживал, но еще всякий дубоголовый крепыш с удовольствием самоутверждался, поколачивая Гарьку, «чтоб не умничал». Не знаю, как поступил бы я, оказавшись в подобной ситуации, а Торосян стал общепризнанным школьным сатириком. Ничья ошибка не скрывалась от его становящегося всё более острым языка. И после этого его перестали бить. Ведь вместо справедливой трепки ботанику получалась бы подлая месть сатирику за критику. Правила чести у подростков хоть и более странные, чем у взрослых, зато способы избежать выполнения этих правил еще не придуманы.