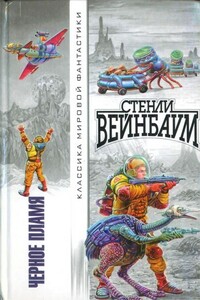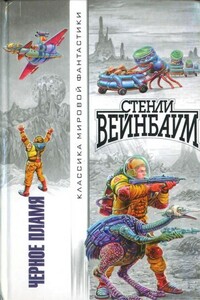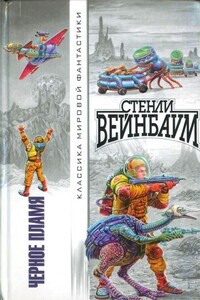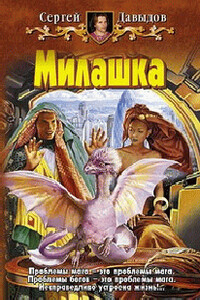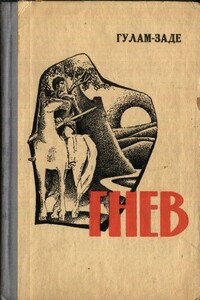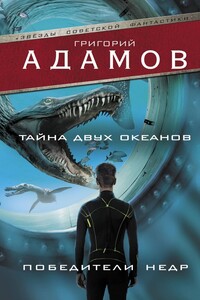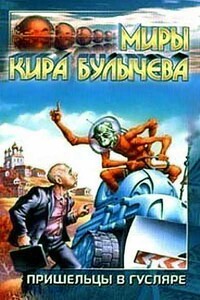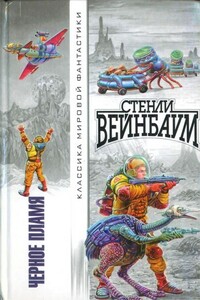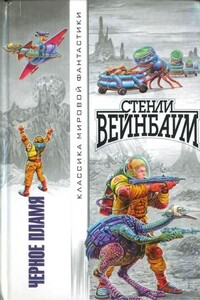По пути в аэропорт Стэйтен Айленд я остановился, чтобы позвонить, и это было ошибкой, потому что иначе я бы успел. Впрочем, чиновник вел себя вежливо.
— Мы задержали для вас корабль на пять минут, — сказал он. — Это все, что мы можем сделать.
Я бросился обратно к такси, которое вырвалось на третий уровень и проскочило Стэйтен Бридж, как комета, несущаяся по стальной дуге радуги. Вечером, а точнее, ровно в восемь, мне нужно было оказаться в Москве, на объявлении победителя в конкурсе на строительство Уральского Туннеля. Советское правительство желало присутствия представителей всех предприятий, предложивших свои услуги, но моей фирме следовало подумать, прежде чем посылать меня, Диксона Уэллса, несмотря на то, что Корпорация Н. Дж. Уэллса — это, можно сказать, мой отец. У меня заслуженная репутация вечно опаздывающего; постоянно случается что-то, не позволяющее мне явиться куда-нибудь вовремя. Причем это всегда не моя вина; на сей раз это была случайная встреча с моим бывшим профессором физики, старым Хэскелем ван Мандерпутцем. Я не мог просто сказать ему «добрый день» и «до свидания», в академическом 2014 году я был его любимым студентом.
Разумеется, я не успел на лайнер. Я все еще сидел в такси на Стэйтен Бридж, когда услышал грохот катапульты, и над головой пролетела советская ракета «Байкал», подобно трассирующей пуле, тащившая за собой хвост пламени.
В конце концов мы выиграли этот конкурс; фирма телексом известила нашего человека в Бейруте, и тот полетел в Москву, однако это не поправило моей репутации. Впрочем, я почувствовал себя значительно лучше, прочтя вечерние газеты: «Байкал», летевший вдоль северного края восточного коридора, чтобы избежать встречи с бурей, задел крылом британский транспортник, и из его пятисот пассажиров осталось в живых не более сотни. Еще немного, и опоздание в Москву стало бы последним в моей жизни.
Я договорился со стариком Мандерпутцем встретиться на следующей неделе. Кажется, он перебрался в Нью-Йорк на должность декана Отдела Новой Физики; новой, то есть основанной на теории относительности. Он заслуживал этого — если в мире есть гении, старикан был одним из них, и я, даже восемь лет спустя после защиты диплома, помнил из его лекций больше, чем из значительно большего числа занятий по математике, парам и газам, механике и прочим опасностям, подстерегающим инженера на пути к диплому. Короче говоря, во вторник вечером я оказался у него, опоздав на час или около того, если честно, я вспомнил о встрече только поздно вечером.
Профессор Мандерпутц что-то читал, сидя в комнате, в которой, как всегда, царил беспорядок.
— Гм! — буркнул он. — Я вижу, меняются времена, но не привычки. Ты был хорошим студентом, Дик, но, насколько я помню, всегда приходил к середине лекции.
— Как раз перед этим у меня была лекция в Восточном Корпусе, — объяснил я, — и я никогда не успевал вовремя.
— Ну так самое время научиться этому! — проворчал профессор, и глаза его заблестели. — Время! — выкрикнул он. — Самое пленительное слово в каждом языке. В первую же минуту нашего разговора мы употребили его пять раз, поняв друг друга, а между тем наука только начинает постигать его значение. Наука? Точнее сказать — я начинаю.
Я сел.
— Вы и наука для меня синонимы. Разве не вы один из самых выдающихся физиков мира?
— Один! — фыркнул он. — Один из многих, а? И кто же эти остальные?
— Ну… Корвейл, Гастингс, Шримский…
— Ба! Да разве можно произносить их имена радом с именем ван Мандерпутца? Это стая шакалов, питающихся крошками идей, падающих с пиршественного стола моих мыслей! Если бы ты вернулся в прошлый век и назвал Эйнштейна или де Ситтера… Вот кого можно поставить в один ряд (или немного ниже) с именем ван Мандерпутца!
Я снова улыбнулся, искренне развеселившись.
— Эйнштейна считали совсем неплохим ученым, разве нет? заметил я. — В конце концов, он первым ввел в лаборатории пространство и время. До него это были философские понятия.
— Неправда! — взорвался профессор. — Может, каким-то темным, примитивным способом он и указал дорогу, но это я, ван Мандерпутц, первым ухватил время, затащил его в свою лабораторию и проделал над ним опыт.
— Правда? И что это за опыт?
— А что можно с ним сделать, кроме простого измерения?
— Ну… не знаю. Путешествия во времени?
— Вот именно.
— В машинах времени, описанных в фантастических журналах? Путешествия в прошлое и будущее?
— Ну вот еще! Прошлое и будущее — это бред! Не нужно быть ван Мандерпутцем, чтобы разглядеть в этом фальшь. Еще Эйнштейн указывал на это.
— Но почему? Ведь это вполне можно представить?
— Можно представить? И ты, Диксон Уэллс, учился у ван Мандерпутца! — Он покраснел от раздражения, но потом обрел мрачное спокойствие. — Послушай, ты помнишь, как меняется время в зависимости от скорости системы — теория относительности Эйнштейна?
— Помню.
— Очень хорошо. Предположим теперь, что великий инженер Диксон Уэллс изобрел экипаж, который может двигаться быстро, чудовищно быстро, развивая скорость в девять десятых скорости света. Представил? Отлично. Ты заправляешь это чудо топливом на поездку в полмиллиона миль, и это — поскольку его масса (а тем самым инерция) согласно теории Эйнштейна растет со все возрастающей скоростью — поглощает все топливо мира. Но ты справляешься и с этим, используя атомную энергию. При этом, поскольку при скорости, равной девяти десятым скорости света, твой корабль весит столько же, сколько Солнце, ты дезинтегрируешь Северную Америку, чтобы получить необходимую тягу. Ты стартуешь со скоростью сто шестьдесят восемь тысяч миль в секунду и пролетаешь двести четыре тысячи миль. Ускорение раздавило тебя насмерть, но ты оказался в будущем. Он замолчал, иронически улыбаясь. — Так?