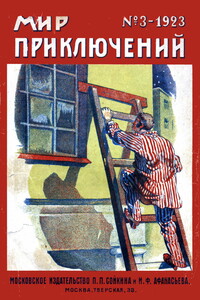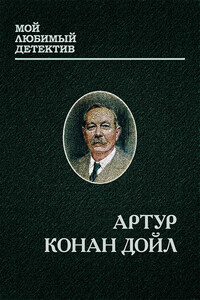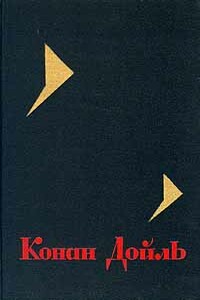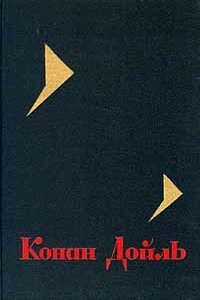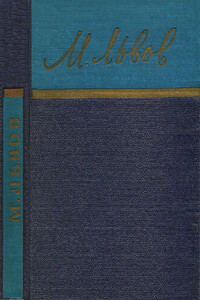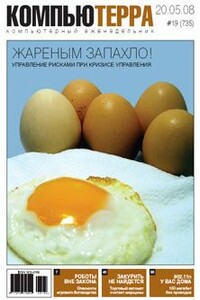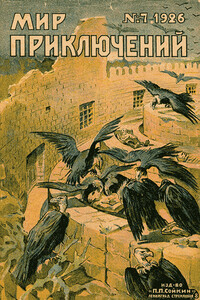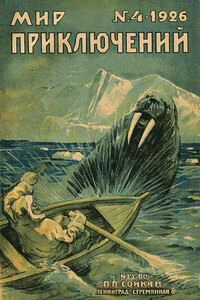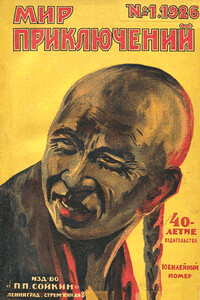«Посмотри-ка, кто такой
Там торчит на минарете?»
И решил весь хор детей:
«Это — просто воробей!».
Величко.
I.
Если бы я был одержим самой ужасной из всех возможных болезней физического порядка, — оспой, холерой, чумой, спинной сухоткой, проказой наконец, — я не так чувствовал бы себя отравленным и погибшим, как в злые дни ужасной и сладкой фантазии, закрепостившей мой мозг грандиозными образами человеческих мировых величин.
Кому не случалось, хоть раз в жизни, встретить на улице блаженно улыбающуюся личность, всегда мужчину, неопределенного или седоволосого возраста, шествующего развинчинной, но горделивой походкой, в сопровождении любопытных мальчишек, нагло смакующих подробности нелепого костюма несчастного человека? Рассмотрим этот костюм: на голове — высокая шляпа, сплошь утыканная петушьими и гусиными перьями; ее поля украшают солдатская кокарда, бумажка от карамели и елочная звезда; сюртук, — едва скрепленный пола с полой сиротливо торчащей пуговицей, испещрен обрывками цветных лент, бантами и самодельными орденами, из которых наиболее почетные, наиболее внушительные и грозные обслужены золотой бумагой. В руке безумца палочка с золотым шариком или сломанный зонтик, перевитый жестяной стружкой.
Это король, Наполеон, Будда, Христос, Тамерлан… все вместе. Торжественно бушует мозг, сжигаемый ядовитым светом; в глазах — упоение величием; на ногах — рыжие опорки; е душе — престолы и царства. Заговорите с этим грандиозным прохожим: он метнет взгляд, от которого душа проваливается в пятки пяток; вы закуриваете, а он видит вас, стоящего на коленях; он говорит — выкрикивает, весь дергаясь от полноты власти «Да! Нет! Я! Ты! Молчать!» — и эта отрывистая истерика, мнится ему, заставляет дрожать мир.
Такой-то, вот, дикой и ужасной болезнью, ужасной потому, что, — перевернем понятия, — у меня бывали приступы просветления, я был болен два года тому назад, в самую счастливую со стороны фактов эпоху моей жизни: брак по любви, смешные и хорошие дети и золото» много золота, в виде бледных желтых монет— наследство брата>1, разбогатевшего чайной торговлей.
II.
Я потерял в памяти начало болезни. Я никогда не мог впоследствии, не могу и теперь восстановить то крайне медлительное наплывание возбужденного самочувствия, в котором очень постепенно, но ярко меняется оценка впечатлений, производимых своей личностью на других. Приличным случаю примером может здесь служить опрокинутость музыкального впечатления, вызываемого избитым мотивом. Нормальный порядок дает сперва сильное удовлетворение, понижающеся по мере того, как этот мотив, в повторении оставаясь одним и тем же, заучивается детально до такой степени, что даже беглое воспоминание о нем дает уже полностью точное представление реального восприятия. Такая интимность с мотивом делает его, конечно, надоедливым и пустым. Теперь, — если представить скалу этого привыкания в обратном порядке, — получится нечто, похожее на шествие от себя — как хорошо изученного реального субъекта, — к полному восхищению своей личностью, во всех смыслах, к фантастическому, счастливому упоению.
Я не могу точно рассказать все. Меня это волнует. Я как бы вижу себя перед зеркалом в вычурно-горделивой позе, с надменным лицом, грозно пляшущими бровями. Но главное, главное необходимо мне рассказать потому, что в процессе писания я, обнажив это главное от множества, перемешанных с ним, здоровых моментов, ставлю между ним и собой то решительное расстояние зрителя, когда он уверен, что не является частью мрачного и унылого пейзажа.
Отменно хорошее настроение, упорная мысль о чем-либо поразившем внимание И особенный род ликующей нервности служили мне всегда верными признаками надвигающегося безумия. Однако, способность к самонаблюдению, неуловимо исчезая, скоро уступала место демону Черною величия. В период протрезвления я вспоминал все. Отчаяние ума, свирепствующего в бессильной тоске анализа, подобного бухгалтерской книге, изображающей крах предприятия бесполезно-ясными цифрами, отчаяние хозяина, видящего, как пожар уничтожает его дом и уют, — вот пытка, которую я переносил три с половиной года.
Демон овладевал мною с помощью следующих ухищрений.
Первое. Мир прекрасен. Все на своем месте; все божественно стройно и многозначительно в некоем таинственном смысле, который виден мне тридцатьшестым зрением, но не укладывается в слова.
Второе. Я всех умнее, хитрее, любопытнее, красивее и сильнее.
Третье. Впечатление, производимое мною, незабываемо глубоко; я очаровываю и покоряю. Каждый кой жест, самый малозначительный взгляд, даже мое дыхание держат присутствующих в волшебном тумане влюбленного восхищения; их глаза не могут оторваться от моего лица; они уничтожаются И растворяются в моей личности; они, для меня — ничто, а я для них — все.