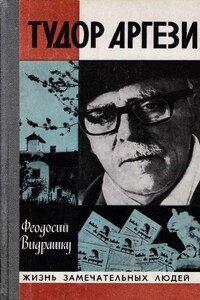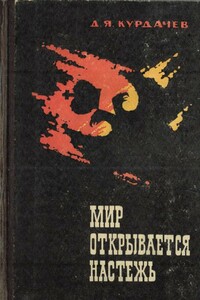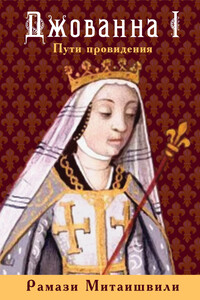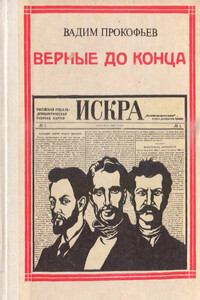Воспоминания князя Сергея Евгеньевича Трубецкого (1890—1949), старшего сына известного русского философа и общественного деятеля Евгения Николаевича Трубецкого (1863—1920), представят, думается, большой интерес для нашего читателя. Они написаны вдали от Родины, когда у автора не было ни малейшей надежды вернуться на родную землю. Но не только ностальгические мотивы были главным побуждением автора написать свои мемуары. Он прежде всего пытается осмыслить жизнь целого поколения на примере ярких представителей русской интеллигенции, многие из которых в силу ряда обстоятельств оказались за пределами родного Отечества.
Воспоминания охватывают период с 90-х годов прошлого столетия до начала 30-х годов нынешнего, но многие размышления автора звучат весьма современно и сегодня. Конечно, восприятие революции Трубецким мы не во всем приемлем. Но вместе с тем автору удалось воссоздать историческую обстановку той эпохи. Позиция его высказана на последних страницах воспоминаний, проникнутых любовью к Отчизне и тревогой за ее судьбу.
Что привлекает в мемуарах князя Трубецкого? Прежде всего — высокое нравственное звучание книги в целом. Мысли Трубецкого во многом перекликаются с идеями Толстого, Чехова, Успенского, с нравственными исканиями передовой русской интеллигенции.
Читатель имеет возможность ознакомиться с особенностями воспитания в семье Трубецких, где превыше всего ценились честь и достоинство, где презиралась ложь, а отношения между детьми в взрослыми основывались на взаимной любви, доброте и душевной щедрости.
Настоящие мемуары - это не только бытописание или любование автора собственной молодостью. Здесь ощущается болезненный надлом его души в силу тех исторических испытаний, которые обрушились на Россию. Но что особенно важно — это не поза обиженного аристократа, а размышления много пережившего и однажды приговоренного к смерти человека. Как вспоминает Трубецкой, в ожидании приговора в тюрьме ВЧК главным для него было — сохранить присутствие духа и принять смерть достойно.
Трубецкой много рассказывает о встречах с революционерами. Казалось бы, здесь мы вправе ожидать самых резких эпитетов в адрес революционного народа, «мужиков», отнявших все его состояние, тех, кто заточил его в каземат. Но ничего подобного читатель не встретит. Как настоящий историк, Трубецкой придает своему повествованию беспристрастность документа. Мало того, целый ряд описанных в книге эпизодов выдает его прямое сочувствие, понимание, а то и симпатию некоторым социально чуждым ему представителям общества.
Необходимо особо подчеркнуть, что данные мемуары — еще одно, пусть и глубоко личное, однако свидетельство событий тех далеких лет, а их автор — наш соотечественник, с болью в сердце заверивший тех, кто прочтет его исповедь: «Будет ли наш npax покоиться в родной земле или на чужби-не—я не знаю, но пусть помнят наши дети, что где бы ни были наши могилы, это будут русские могилы, и они будут призывать их к любви и верности России».
В тексте книги сделаны отдельные сокращения, касающиеся описания второстепенных, малозначимых для современного читателя событий и оценок.
Сохранено своеобразие написания отдельных слов и выражений, составляющих, на наш взгляд, неповторимый колорит языка того времени.
Руднев Н. А.,профессор, доктор социологических наук
Я родился 14 февраля 1890 г. (по старому стилю) в Москве, в доме моего деда с материнской стороны, кн. А. А. Щербатова, на Большой Никитской, № 54.
Родился я в «приемный день» моей бабушки, кн. М. П. Щербатовой, но, конечно, по случаю моего рождения прием был отменен.
По тогдашним обычаям, в великосветских домах швейцар вел книгу посетителей. В день моего рождения страница книги осталась пустая. Но дворецкий Осип приказал швейцару единственным посетителем записатьменя —полным моим именем — ив графе адреса записать «здесь». Впоследствии я сам видел эту запись в огромной, переплетенной книге. Этот поступок был типичен для Осипа: он любил порядок, форму и церемониал. Через несколько дней после моего рождения мой дед показал меня Осипу и спросил, на кого я похож. «Лобнаш,—отвечал он,— об остальном не могу доложить Вашему Сиятельству».«Наш» —означал Щербатовский:
Осип, как и многие старые слуги того времени, чувствовал себя заодно со своими господами — «своей фамилией», как говорил он.
Мой отец говаривал, что наше детство и детство его поколения не так уж различны между собой. Совсем другое дело, говорил он, детство его родителей (моих дедов) и детство его собственного поколения: между ними легла резкая черта — уничтожение крепостного права.
Между моим поколением и поколением моих детей прошла другая, несравненно более глубокая черта — большевицкая революция.
Уничтожение крепостного права, разумеется, очень глубоко отразилось на той аристократической и помещичьей среде, к которой принадлежали все наши деды и прадеды, как с отцовской, так и с материнской стороны. Однако ломка жизненных условий была тогда относительной: тут была эволюция, а не революция. Старое отживало и постепенно уходило, а не рухнуло так, как это случилось на нашей памяти.