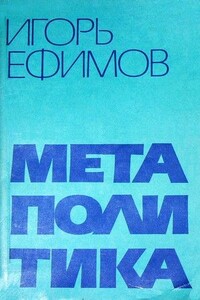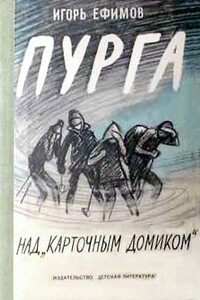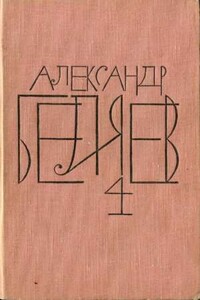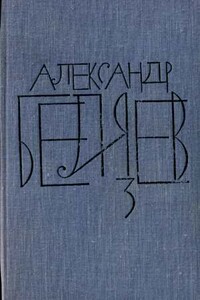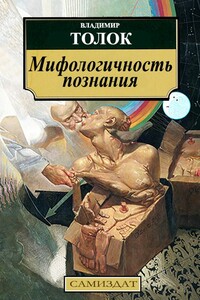1. Политика — предмет страсти или предмет науки
Если бы мы жили в пещерах и хижинах, охотились на диких зверей, били острогой рыбу, отыскивали съедобные коренья, то, наверное, мы так же, как наши далекие предки, молились бы усвоим деревянным богам о ниспослании удачной охоты и окровавленная туша кабана, оленя, слона или моржа представлялась бы нам вершиной человеческих устремлений.
Если бы мы ночевали в степях, горах или пустынях со своими стадами, то боялись бы песчаной бури, моровой язвы, пересохших рек, засыпанных колодцев, а отсутствие всех этих бед почитали бы милостью, ниспосланной нам свыше.
Если бы наша жизнь протекала на клочке земли от урожая до урожая, мы просили бы у неба то дождя, то вёдра, просили бы уберечь поле от саранчи, а виноградник от заморозка и, засыпав полный амбар, читали бы благодарственные молитвы и полагали себя счастливыми.
Но мы живем не так и молим небо не о том.
Все самое насущное — еда, тепло, свет, вода, одежда, жилье: не даруется нам больше природой, не добывается собственным трудом. Мы все получаем из рук других людей.
И все самое страшное тоже в девяноста девяти случаях из ста явится нам не громом небесным, но другим человеком: жандармом в каске, чиновником в галстуке, солдатом в мундире (иноземном или отечественном), погромщиком с иконой, со свастикой или с красным цитатником, грабителем, натянувшим на лицо черный чулок, экстремистом, всходящим на борт самолета с бомбой в портфеле. Даже известная прерогатива судьбы — болезнь — и та сейчас кажется нам перешедшей в веденье человека, врача — плохого или хорошего. Неудивительно, что каждый из нас хотел бы жить среди людей, умеющих строить прочное и просторное жилье, шить добротную одежду, вырабатывать еду в изобилии, хотел бы, чтобы чиновники были послушны закону и человечны, солдаты — смелы с врагом, а не со своими, врачи — опытны, учителя — умны, газетчики — честны, чтобы жандармы ловили грабителей и экстремистов, а не людей, читающих книжки, и так далее.
Но мы не молимся даже об этом. Другой человек теперь значит для нас так много, мы во стольком зависим от него, что забываем за ним Провидение; мы больше не заботимся о том, как нам прожить в мире с самим собой, с Богом, — нет, только с ним, с другим человеком.
Поэтому мы вообще больше не молимся — мы спорим о политике.
Как нам ужиться на земле друг с другом, как уживаться людям разных племен и народов, разного языка и цвета кожи, разных вер и традиций, разных профессий и способностей, и можно ли ужиться, или надо бороться с другими и подавлять, каким должен быть наилучший порядок совместной жизни людей, и как его можно достигнуть, и чем для него можно пожертвовать — вот конечный смысл всех вопросов, охватываемых словом политика.
Последние двести лет не слышно, чтобы кого-нибудь казнили смертию за ересь, колдовство, оскорбление святынь или еще какое безбожие. За политику же казнят нещадно — гильотинируют, вешают, расстреливают, травят газом, морят в концлагерях. Люди добровольно идут на смерть поодиночке и массами за свои политические убеждения: брат поднимается на брата, сын на отца, «пятеро в доме разделяются» во имя ее, целые народы погружаются в пучины гражданских войн.
И может, именно оттого, что политика зажигает в сердце человеческом такие страсти, ей до сих пор не удалось стать объектом бесстрастного исследования. Хотя еще Аристотель называл политику важнейшей из наук, наукой она так и не стала. Есть много политических теорий, содержащих в той или иной мере зерно истины, но каждая из них так спешит перейти от того, что есть, к тому, что должно быть, то есть к практическим рекомендациям, к описаниям идеального политического устройства и кратчайших путей достижения его, что объективности этих теорий хватает ненадолго. Поэтому всякий исследователь в наши дни вправе забыть своих предшественников и обратиться непосредственно к материалу, питающему любую политическую мысль, — к истории.
Уже в прошлом веке объем накопленного исторического знания был огромен. Сейчас же он сделался просто пугающе необъятным. История не только удлинилась на сто лет, небывало насыщенных социальными потрясениями, но и открылась в своих далеких истоках благодаря тысячам томов превосходных исследований. Многие политические мыслители прошлого века, оказавшись перед лицом новейших исторических сведений и фактов, не укладывающихся в их теории, сами вынуждены были бы заняться пересмотром своих идей, переизданием книг.
Историческое знание выросло не только количественно, но и качественно.
Культура исторического исследования далеко обогнала культуру политического теоретизирования. Сами события прошлого устанавливаются, как правило, наукой историей с такой степенью достоверности, что перестают вызывать споры, не оставляют простора шарлатанству и демагогии. Но стоит от фактов перейти к обобщениям, стоит заговорить о причинах и движущих силах, вызвавших то или иное потрясение общества, то есть к вопросам политическим, как согласие будет нарушено и начнутся яростные дебаты, в которых спорящие откажутся понимать друг друга и добро еще, если не дойдут до таких аргументов, как драка, стрельба или аресты оппонентов. Действительно, кто сейчас попробует отрицать, что Генрих VIII Тюдор, Иван Грозный и Сталин казнили множество преданных своих сторонников? Но спросите почему, и один скажет: потому что все трое были жестокими и подозрительными тиранами, жаждавшими крови; другой — потому что такова была в тот момент закономерность исторического процесса (а уж в ее-то реестры заранее вписаны все отрубленные головы); третий — что террор начинался как раз в тот момент, когда всевластный владыка терял любимую жену — Анну Болейн, Анастасию, Аллилуеву (не ясно, что виной всему сублимация?); четвертый — что вершился непостижимый Промысел и каждый из них явился батогом Божьим.