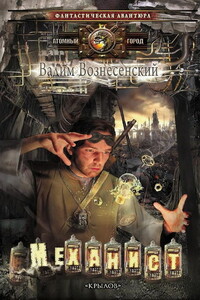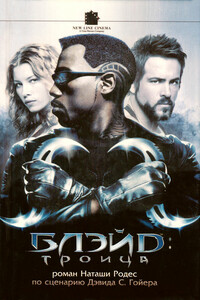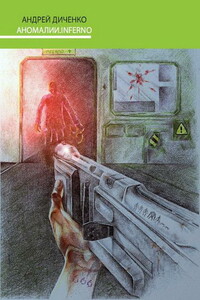Тилин-тилин. Пластмассовая игрушка-неваляшка. Танцует, раскачивается и вращается. Раскачивается и вращается. Оплавлен бок, и слегка выцвела краска. Тилин. Но не сотрется улыбка. Синие-синие глаза — были, когда-то. Теперь — блекло-серые. Бессмысленный взгляд. Покачивается. Замирает. Ей не страшно.
Чудовище. Голый череп с неповторимым рисунком — разводами ожоговых шрамов. Оплавленное и застывшее лицо — он чем-то похож на ту игрушку. Тоже покачивается. Только не улыбается. Вытекший глаз и безгубый провал рта. Узловатый скрюченный палец, кость и пергамент-кожа, толкает округлый желтый бок — тилин-тилин.
А еще мелодия — в такт. Тин-тин-тили-тили-дин. Еле слышно.
Черная комната и черная пыль, везде пыль. Луна осторожно заглядывает в разбитые окна. Боится порезаться. Ей еще много чего предстоит увидеть — Луне. Монстр тоже на нее иногда смотрит слезящимся единственным глазом. Он видел ее и другой — Луну. И чего-то еще ждет. Глупец.
Тин-тили-тили-дин. Слегка щербатые звуки — сломан колок, или молоточек, или еще что-нибудь. Не хватает целой ноты. Серебряная шкатулка возле неваляшки. На ней тоже нет пыли — ведь механизм время от времени заводят. Жизнь — сжатая пружина. Когда-нибудь лопнет, сломается. Но сейчас — Луна с Чудовищем слушают Музыку и смотрят друг для друга.
Тили-дин, дон-тили-дин. Похоже на «Щелкунчика» Чайковского — картина три, сцена пять, вариация вторая — «Танец Феи Драже»… впрочем, во Вселенной так много подобных друг другу мелодий.
Возможно, и Монстр может выглядеть несколько иначе. Кружиться в безумном танце посреди волшебного леса, дарить комплименты красавицам в невесомых лоскутных платьях. Никто даже не почувствует, что внутри него — лишь темная комната и черная пыль, желтая неваляшка, серебряная мелодия. И Луна — многоликая. И необузданная страсть к убийству богов.
Просто хочется верить, что все может быть не так. Что это сон.
Тилин-тилин. Неваляшка.
Тин-тили-тили-дин. Шкатулка.
Странные, странные вещи могут, волей не менее странных существ, стать самыми могущественными артефактами.
Дальний забой. Кирка взлетает и с силой вгрызается в камень, высекая искры, возвращая энергию удара обратно в ладони, локти, плечи, сколотые крупинки бьют по лицу, по глазам, как бьет с раздражающей периодичностью по ушам опостылевший скрежет металла о породу. Пыль, вездесущая, оседающая на одежде, на руках, на лицах, делающая узников похожими на черных демонов, сверкающих слезящимися белками, пыль, не менее толстым слоем, чем на коже, покрывающая наши внутренности — легкие, желудки, проникающая, кажется, в самую кровь.
Раз за разом, вкладывая всю массу тела в движение инструмента, единственное спасение от монотонного сумасшествия — умение погрузить себя в отстраненное небытие, позволив рукам самостоятельно делать изнуряющую работу. Это тоже опасно — слабые духом могут остаться в своей рукотворной нирване навсегда. Я уже видел таких, заблудившихся в лабиринтах собственного сознания, с блаженными улыбками на истощенных лицах, забиваемых насмерть батогами надсмотрщиков. Моя задача — остаться собой, поэтому я, подобно паровой машине, размеренно вонзаю кирку в камень и, чуть шевеля губами, беззвучно рассказываю себе истории. Не разговариваю сам с собой — нет, это прямая дорога к сумасшествию, не разговариваю, а рассказываю.
О событиях из детства. О первой любви. О приобретенных Знаниях.
Изобретаю и улучшаю, дополняю и отметаю исправления отчерченных в воображении схем. Оцениваю, горжусь достижениями, разбираю ошибки и — ни о чем не жалею. Это моя жизнь, это мой мир, внутрь которого я сейчас никого не пускаю. Ни единой твари — хотя, полагаю, некоторым очень хотелось бы докопаться до оттенков моих мыслей. Иначе чем объяснить, что примерно год назад, плюс-минус дни, недели, месяцы, ведь время остановилось и теперь измеряется в промежутках между приемами пищи, но пусть будет год назад, меня не отдали во власть очищающего пламени.
Насколько я нужен этим мрачным подземельям? Добыча сверхчистого кварца — слишком невыносимый труд, чтобы им занимались наемные работники. Ну а рабы, каторжане, выдерживают здесь всего два-три года. Но даже в обществе отверженных я изгой, впрочем, последнее меня абсолютно не беспокоит. На хриплом выдохе — рудники не прибавляют здоровья — удар.
— Что, совсем слепой без своих амулетов? — Голос с восточным акцентом, снисходительно-покровительственный. — Не чувствуешь слабину?
Гоблин. В такой ситуации инстинкт самосохранения рекомендует повернуться, раболепно согнув спину, и пробормотать что-нибудь смущенно-оправдательное. Еще неплохо набраться наглости, коль у надсмотрщика такое благосклонное настроение, и смиренно попросить указать точку напряженности. Заработать пару пунктиков в отношениях с охраной. Настроение не то. К тому же до смерти надоели повторяющиеся на протяжении всего пребывания здесь оскорбления на тему бессилия. Ведь каждому хочется задеть за живое. И никто не принимает во внимание тот бесспорный факт, что голодный и уставший каторжанин для всех закрыт — наглухо. Сканировать не могут, а самые тщательные, особенно изысканные обыски (пренеприятнейшая процедура) не дают вещественных результатов. Никаких талисманов не обнаруживается.