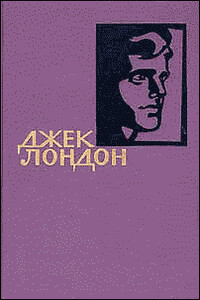У меня шерсть – большая, красная, не прочесать. Когда Федору меня отдали, он сразу сказал: «Ну, я из него человека сделаю!» А мне и трех месяцев не исполнилось, что я понимал? Ревел все время.
Федор мне секунды отдыха не давал: то велосипед, то кегли, то самокат. Скорее, скорее, чтоб только был номер! Я потом понял, почему он так торопился: мать умерла, сестры, Настя и Даша, – семиклассницы, в доме ни копейки. Откуда у него деньги? Студент циркового училища.
Мы с Федором целыми днями работали. А как ночь, так это. Сначала весело и искры. И я вместе с искрами падаю. Лежу, сверху льется горячее что-то. Наверное, снег. Это снег. Он и льется.
Федор сказал: «Главное, память отшибить. Чтоб зверь позабыл, кто он есть».
Понимаю. Надо ее отшибить, потому что она мешала ему работать. И пахла каждую ночь, как та елка, которая у нас на Новый год посреди арены горела весь месяц зеленым и желтым. Потом елка высохла, запах свернулся, ее унесли, а мою отшибают. Запрут меня в клетке и свет сразу гасят.
В лесу молоко и всегда очень жарко. В лесу шла зима, мы в нем с матерью жили. Потом мать убили в лесу. Я остался.
Что это: убили – пока что не знаю. Но мать так кричала. И это я помню.
Сначала мне сунули морду в огонь. Потом сразу в черное и завязали. Потом пришла баба и стала реветь:
– Космат, ну, косматый! Давай в дом возьмем!
Тогда и мужик разбрехался:
– Ну, ты! Его продадим, знаешь, сколько отвалят!
Я лежал на мокром, на лапы его не смотрел. Они сильно пахли. Тогда я не знал: это кровь. Теперь уже знаю.
Никого я так не боялся, как черного мужика. Даже пьяного Федора так не боялся.
От Федора пахло железом. И бил он не сильно, коротенькой плеткой.
Федор – белый, костлявый, вся шерсть на нем желтая. Есть очень хочет.
У Федора мать умерла, а мою мать – убили.
Мы уже второй месяц работаем на льду. По деньгам это хорошо. Деньги – бумага, называются «бабки». Лед придумал Аркадий, он умница. Я знаю: он умница, Федор сказал мне.
Он приехал к Федору, когда бабки кончилась, и Федор кормил нас овсянкой. У него договор с дирекцией: живу я при цирке, но в цирке не кормят, у них на своих не хватает. Кормил меня он. Потом, когда кончились бабки, мы ели овсянку. Меня пронесло. От овсянки, конечно.
Когда пронесло, к нам приехал Аркадий.
Аркадий сказал:
– Бери-ка Мишаню на лед и работай!
А Федор ревет:
– А зачем нам на лед-то?
– А ты человек будешь, Федя, с медведем. Народная сказка. Ну, понял? Доперло?
После этого Федор мне запретил на четырех лапах жить. Как я опущусь на четыре – он плеткой. И я поначалу ревел. Спина – у-у-у! – горела. Как будто в ней сук. Но с утра было лучше. С утра я стою на своих, каждый день.
Утром Федор клетку откроет, смотрит на меня. Во мне молока полно брюхо и жар.
Вокруг меня лес.
Утром я очень люблю Федора. Он клетку откроет и морду мне гладит.
Утро в нашем цирке розовое, и сразу ложится вокруг, как вода. Лежит и лежит, а потом уже вечер. Я цирковой артист, мы и утром, и вечером работаем.
Меня Федор кормит, он любит меня. А после – сук в спину. Работаем, значит.
Площадку давали, но редко. Скоты.
Мой Федор ходил к ним, к скотам. Ревел там. Потом говорит: «Да срать нам на них, а, Мишаня?»
Аркадий автобус нам дал. В нём – Ван Ваныч. И стали на лед, на искусственный, ездить. Ван Ваныч похож на осла. С ослом нашим бурым работает Неля, боится, что сдохнет. Осел у нас старый. Неля ему делает уколы перед каждым выходом, и он начинает плясать на арене. А чуть за кулисы, и всё, подыхает. Но Неле так надо. Ей бабки нужны.
Ван Ваныч въезжает во двор, это утро. Выходим мы с Федором, сразу в автобус. Домой только вечером.
Работа – не сахар, так Федор сказал мне. А я стал артистом, как маму убили.
На льду нам попалась Оксана. Приходим, садимся на лавку, и вдруг – у-у, какая! Вся белая-белая. Морда – как лед. Глаза голубые. Внутри шерсти – блестки. Надела железки и стала крутиться.
А Федор стоит и стоит, как наш бурый. Забыл про работу.
Потом он достал из кармана намордник и морду мою всю засунул туда. Мне стало обидно, а он – меня плеткой. И мы покатили.
Она всё крутилась, пока не упала.
Тут Федор ревет:
– Извиняюсь! Вот мы!
Она даже глаз не открыла, лежит.
– Ударилась? – Федор ревет и дрожит весь.
Она ему в морду оскалилась белым и лапами машет. Ей, значит, смешно.
И Федор сказал:
– Познакомиться надо.
Она нам ревет:
– Я Оксана.
Я сразу почуял, что всё в ней – как мед. Она очень сладкая, сладкая баба. И вся в молоке. Пахнет тоже как мед. Густым, сильным-сильным, немного как рыба. И Федор почуял.
Он поднял Оксану со льда и ревет:
– Давай! Догоняй нас!
И сразу к трибуне. И сам весь дрожит.
Там Федор сказал. Он сказал:
– Оксана! Ты очень красивая! Очень!
Она ему что-то тихонечко:
– У-у!
А что, я не понял. Но Федор мой весь заблестел.
Он ей говорит:
– Ну, о’кей. У нас транспорт.
Поехали мы на Ван Ваныче. Едем. Оксана ему говорит:
– Здесь. Вот здесь вот.
И Федор сказал, чтоб забрал он нас в восемь.
Они выпрыгнули из Ван Ваныча, и Федор меня поволок вместе с ними. Намордника даже не снял, это плохо.
Оксана открыла ключом одну дверь, потом еще дверь. Потом было зеркало, я всех нас видел. Потом они сняли с себя свои тряпки.