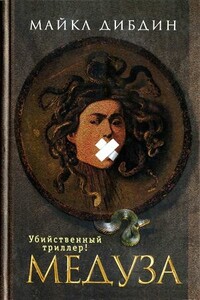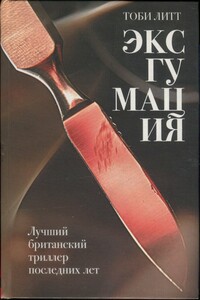Маслянистый туман придавал улицам таинственный вид, обволакивая густой пеленой фасады по обеим сторонам, делая незнакомыми привычные абрисы и покрывая окна паутиной струящихся нитей, на вид более плотных, чем водяные. Габриэле пытался отодвинуться от занимавшей соседнее сиденье толстой женщины, во всех отвратительных подробностях обсуждавшей с кем-то по телефону резекцию кишечника своей пожилой родственницы, однако она прижимала его своей тушей так, что широко развернуть газету не представлялось возможным. Он мог прочесть только заголовки, сообщавшие о военных действиях, не прекращавшихся в какой-то чужедальней стороне, где юноши продолжали убивать и умирать. Снаружи ворчал и взревывал поток зажатых в пробке машин. Трамвай громыхал по своей законной свободной полосе сквозь тонущий в мареве город, периодически предупреждая о своем приближении резкими звонками.
– Бог его знает! – тараторила толстуха. – Сначала мне нужно забрать машину у Пии, если она, конечно, еще там, в чем я сомневаюсь, а потом – кто знает при этом проклятом тумане.
Габриэле прижался к окну и поднял воротник своего серо-зеленого суконного пальто, чтобы хоть символически отгородиться от женщины. Он любил туман: окутанный им мир казался умиротворенным и замкнутым. Блестящее становилось матовым, резкие звуки приглушались, окружающая материальная субстанция утрачивала свою грубость. Предметы превращались в понятия, насущное оборачивалось смутным отголоском вечного.
Обособленным потоком, встроенным в общую лавину, текли в его сознании воспоминания о туманах детства. Туман болезни, реальной или мнимой, – простуды, жара, лихорадки. «Мама, что-то мне нездоровится». Она всегда охотно верила ему, и он, зная, что доставляет ей удовольствие, мог придумать или преувеличить симптомы, не испытывая при этом особых угрызений совести. Мать любила, когда он болел. Тогда она чувствовала себя нужной. Порой он подозревал, что она догадывалась о его симуляции, но прощала, а быть может, даже и поощряла его.
Туман ассоциировался в сознании Габриэле и с пуховым одеялом, которое мать поднимала и плавно опускала на него, между тем как часы упорно старались напомнить, что ему пора быть в школе вместе с оравой других хулиганов и зубрил. Он называл одеяло «своим облаком». Как только мама выходила из комнаты, Габриэле отбрасывал одеяло, невесомое и теплое, делал рывок к книжному шкафу, хватал наугад несколько романов и, запрыгнув обратно в кровать, снова укрывался «своим облаком». Книги были еще одной разновидностью тумана, который сочился, проникал внутрь и вероломно подрывал авторитеты и официальные установления, обнажая их фальшь. Габриэле знал, что сюжеты романов вымышлены, персонажи – марионетки, а исход событий предрешен, так почему же литературные герои казались ему более реальными, чем действительность? И почему ни на кого другого эти занимательные сочинения не производили такого оглушительного впечатления?
Трамвай со скрежетом затормозил, толстая женщина встала, продолжая без умолку болтать по мобильному телефону, вышла и мгновенно растворилась в тумане. Двери снова закрылись, трамвай загромыхал дальше. Соседнее место освободилось. Габриэле развернул наконец газету и по диагонали просмотрел статьи по международной и внутренней политике. Как обычно, они напомнили ему матушкин афоризм насчет остатков еды: «Добавь всего один ингредиент – и блюдо можно подавать как новое».
Здесь, в центре старого города, туман казался еще более плотным и куда более реальным, чем неверные очертания зданий из камня и стекла, медленно возникавшие и тут же расплывавшиеся за матовой завесой. Габриэле перешел к разделу «Криминальная хроника» и прочел сообщения об убийстве на бытовой почве в Генуе, о человеке, умершем от передозировки наркотика в Турине, и о трупе, найденном в заброшенном туннеле некогда военного назначения высоко в Доломитовых горах.
Трамвай затормозил у очередной остановки. Габриэле свернул газету трубочкой, засунул в карман и на следующей остановке вышел вместе с семью другими пассажирами. Изображая внезапный приступ кашля, помедлил, пока они растают в тумане. Трамвай покатился дальше, увозя с собой источник света, и оставил его подслеповато вглядываться в мутные испарения.
Он поспешно перешел на другую сторону, едва успев увернуться от автомобильных фар, оказавшихся гораздо ближе, чем ему показалось, и побрел в том же направлении, куда ушел трамвай, то и дело останавливаясь, оглядываясь, прислушиваясь и принюхиваясь к густому, тяжелому воздуху. Пройдя несколько кварталов, Габриэле увидел кафе, в последний момент соткавшееся из разрозненных лучей и отблесков. Выждав несколько секунд, толкнул дверь.
Раньше он никогда не выходил на этой остановке и не бывал в этом кафе, поэтому с живым интересом окинул взглядом интерьер, убранство и прежде всего – клиентуру. С особым вниманием он разглядывал тех, кто входил после него. Когда ему подали капуччино и бриошь, он сдвинулся к дальнему краю мраморной стойки, туда, где она изгибалась к стене. Оттуда хорошо просматривался весь зал, включая единственный вход. Посетители казались именно такими, каких ожидаешь увидеть в подобного рода кафе в этом районе Милана в этот утренний час: солидными деловыми людьми, состоятельными и занятыми исключительно собственными заботами. Они завтракали, собравшись по двое или группами, и, похоже, не обращали на него ни малейшего внимания.