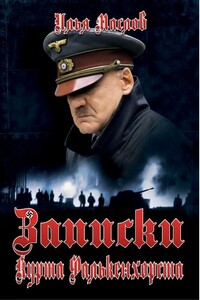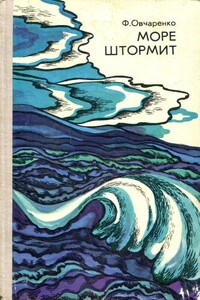Мать едет женить сына
Мать едет женить сына
Люди, пролетая над Цмакутом, из Москвы до Еревана добираются за каких-нибудь сто двадцать — сто двадцать пять минут, а чтобы добраться из Цмакута в Ереван, нужно ехать целый день и ещё целую ночь.
— Наше село, кум, далеко, далеко…
— Уж так ты говоришь, будто и не в Армении это…
— И не в Армении, и не на этой земле…
Там годами каждый божий день ястреб делает всё те же круги над селом и над курами, из-за холмов вдруг выпрыгивает град, чтобы побить поле и перепёлок, ветер срывает крыши с ульев, и ульи заполняются дождевой водой, и ребёнок, которого отправили за лошадью, растерянно стоит на этом краю оврага, а на другом краю встала мокрая лошадь, а сам овраг наполнился шумом жёлтого ливня, а большая скала возле оврага вот уж сто лет как дала трещину, но не рушится и ничего с нею не делается, и человек ломает голову, не знает — возле этой скалы построить себе дом или же возле Симонова дома, у опушки. И если не там и не там, то, может быть, это и есть наконец повод собрать несуществующие пожитки и перебраться в Ереван? У Симона-то дела вон как хорошо сложились, сын в Ереване живёт, ну а если жара в городе — Цмакут тебе готовая дача, приезжай и живи сколько хочешь. Агун таки добилась своего — всю жизнь нудила: в город, в город, в город. И вот уже двадцатипятилетний её сын не где-нибудь — в самом Ереване (а хотела ведь чего-нибудь вроде Манаца, о большем и не мечталось).
— Серо!
Парандзем она должна осталась тридцать яиц. В прошлый раз сын сказал: «Яйца по десять копеек штука, рынок — под носом, не привози больше». Не понимает, весь в дядьку пошёл, ничего не понимает и никогда хорошо жить не будет, деньгам счёта не знает, охапками получает и так же охапками по ветру пускает. Хорошо бы, жена такая попалась, чтоб хозяйничать умела, иначе пропадут.
— Серо, пятьсот яиц по десять копеек — сколько будет рублей?
— Раз не берёшь меня с собой, не скажу.
— Арифметику выучил? Ты что это там читаешь?
— Раз не берёшь с собой, не скажу.
— Запиши на какой-нибудь бумажке — отдать тридцать яиц Парандзем.
— Раз не берёшь с собой, не напишу.
— Ну-ка быстро!.. Поди погляди, пасётся лошадь или запуталась, быстро, тебе говорят!
По математике сын учился плохо. Экзамен на носу был, а он пошёл дрова рубить и ногу поранил. Не очень сильно поранил, но так как экзамен на носу был — заплакал жалобно: «Больно». Сирануш сказала: «Агуник, ты пострадавшая женщина, оценку ставлю, но без математики у сына твоего нет будущего, знай». Она, помнится, ответила: «Если в ванкеровскую сторону пошёл — не пропадёт, Сирануш-джан, а если в цмакутовцев — ничего не поможет, даже математика». Интересно, читает Сирануш его статьи? Вазген читает, и ему не нравится: «Если я сяду писать, у меня ещё лучше получится». Что ж ты не пишешь, спрашивается. И чернила в доме есть, и ручка, пиши, кто тебе мешает…
— Серо!
— Что тебе?
— Дорогой профессор Серо, записал — тридцать яиц Парандзем?
— Раз не берёшь меня с собой, я тебе не профессор.
— А я про что говорю? (Сто яиц да ещё пятьдесят — сколько же это будет, сто пятьдесят, что ли?)
— Про что?
— Говорю — ты пастух, Серо. — Когда сын в восьмом классе срезался по математике, Симон сказал: «Пастухам приличный трудодень идёт и деньги сверх того, давай, жена, отправим его пастушить. Пусть станет пастухом… Войны нет, воли — никакой, желания хорошо жить тоже не видно, ну а картошка, чтоб брюхо набить, всегда найдётся». — Быстро встань!.. Поищи старую, ненужную книжку, бумага кончилась.
Ребёнок встал перед книжным шкафом, поглядел, поглядел, похлопал глазами, потом пошёл за табуретом.
— Там нет ненужных книг, в другом месте посмотри.
— Раз не берёшь с собой, возьму и все яйца побью.
— Ну да?
— Все до одного.
— Что ещё хорошего можешь сделать, ну-ка выкладывай!
— Раз не берёшь в Ереван…
Арташ всё хозяйство разграбил, разбазарил, а сыну ведь ничего, кроме ковра и постели не дал. А подушка — что это была за подушка? Как перья из гуся повыщипали, так в наволочку и побросали.
— Ну хорошо, взяла я Серо с собой, а дальше что? Корова пришла — телёнка нет. Отец с поля вернулся — в доме ни огня, ни воды, темно в доме… Отец голодный, голодный и пить хочет до смерти… Свиньи остались в лесу. Коршун кур унёс. Мурадовский зять проходил мимо, обломал ветки у нашей груши, куры яйца снесли, подобрать было некому — кошка сожрала… И вот мы из Еревана приехали и видим — не дом, а хлев — хорошо ли это?..
— А мне что.
— В этом доме всё, что есть, твоё. И дом твой. А я и твой отец — твои рабы или слуги, называй как хочешь.
— Не нужно мне всё это.
— И брат твой так говорил. А теперь гляди, его Серо сколько всякой всячины брату посылает. И знаешь, почему посылает… заворачивай как следует… посылает… чтобы, когда придёт время в институт поступать, чтобы брат своего Серо в университет определил… Вот так, по одному заворачивай, клади сюда. (Интересно, как поведёт себя невестка, встречаются ведь такие шипящие змеи, говорят: «Моего мужа мать не рожала, он так готовый и родился, и он мой». Да, есть такая разновидность нерях — ты им всё неси, неси, тащи, а в доме у них всё пусто. Эх, была бы светловолосая, высокого роста, с тяжёлой длинной косой, родила бы им здоровых внуков…) На завтра обеда хватит, разогреешь себе, а послезавтра Назик придёт приготовит, следи, чтобы масла поменьше клала. Послезавтра, когда отец твой явится с работы, скажешь ему: «Слушай, отец, каждый день на государственной службе, другие своё сено давно убрали, наше сено в горах лежит, преет, а если завтра снег пойдёт, трудно ведь нам придётся, а?..» Поди прибавь звука, хорошую песню передают. Всю жизнь мечтала, чтобы хоть один сын с голосом родился, песни мог петь, а вы все, как на подбор, без слуха родились.
— А брат разве не поёт хорошо?
— Брат?.. Умереть мне за твоего брата. Брат твой всё делает хорошо — и поёт, и пишет, и смеётся, и друзья у него все хорошие… Ох, спина… Вырастешь, пойдёшь в ветеринарный институт, станешь ветеринаром, верно, Серо-джан? А ты заворачивай и слушай, станешь ветеринаром, вернёшься в село. А в городе у тебя дом свой будет, и у брата твоего в селе дом, и я, ваша мать, сяду и хорошенько отдохну… А отец ваш для вас ульи будет ставить. А если вашей матери не станет, не забудьте прийти на могилу и сказать: «Вот, мать, мы стали тем, кем ты хотела нас видеть». Услышу? Записал ты или нет тридцать яиц Парандзем? Ох, чтоб не было покоя под землёй твоему деду Ишхану: мир полон всего, а ты, Агуник, из Симона человека сделай, из хлева — дом, из Арменака — Арменака… ты всё делай, делай, делай, а потом ни здоровья тебе не останется, ни охоты до радости. Другие пусть из одних палат в другие переходят, а мне на роду Цмакут был уготован, а в Цмакуте — Симон. Человек — цветок, каждую весну расцветать должен, как же… Придёшь, Серо-джан, на мою могилку, встанешь у изголовья: «Слушай, мать, у Арменака всё в порядке, и у меня всё хорошо, по тому пути пошли, по какому ты хотела».
— Завела своё, сейчас все яички перебью…
— Не плачь, ты не из этих, не симоновской породы…
— А сама что плачешь?
— Мне можно. Твой распрекрасный дядя Адам в январе выбросил меня за дверь: «Иди, ты не для этого дома»; твоя бабка Арус каждый день меня поедом ела, кровь из меня пила; твой дед Абел, чтоб ему на том свете неладно было, с поля возвращался: «Ты ещё здесь?» Утром просыпался: «Ты здесь ещё, бесстыжая, тебе всё нипочём!» — а твой распрекрасный отец стоял рядом разинув рот, раззява раззявой. Меня тогда не Агун звали, а арнаут1, — я помногу ела ихнего хлеба, которого не было. Сын твоего дяди, Грачик, был тогда ещё с напёрсток, его научили, он кричал мне вслед: «арнаут» — и камнями кидался. Вот как, Серо-джан. А моя тётка Манишак… сестра моего отца Манишак… Встань, сейчас же встань с места, расселся со своей толстой задницей! Все дела сделал и расселся! Лошадь там сейчас бог знает как запуталась, ну беги скорее, быстро, чтоб твоему деду Абелу на том свете пусто было, такой же бездельник был! Быстро, говорю!..
— И очень хорошо делали, что так говорили.
— Как говорили?
— Говорили «арнаут».
— Ай да сын у меня, ай да сыночек, ну радость, ну утешение!
— А что ж ты меня ударила?
— Быстро беги посмотреть, как там лошадь, а не то встану и не так ещё всыплю!..
— Агуник…
— Смотри-ка, уже не арнаут, уже по имени величают — Агуник.
— Агуник…
— Зовут тебя…
— Твоя бабка это, пускай кричит сколько влезет.
— Пускай.
— Агуник, Агуник!
— Да говори же, что тебе?
— Серо, Серо!
— Ну что тебе?!
— Серо!
— Да ну что, что?
— Твоя мать что делает?
— Скажи, собирается в Ереван, скажи в приготовлениях вся, занята очень.
— Собирается в Ереван, в приготовлениях…
— Скажи, занята очень, времени у неё нет.
— В Ереван собирается?
— Ну да.
— Пусть выглянет на минуту.
— Скажи, времени нет, занята. Теперь нужна им стала. Теперь по имени величают, ишь ты! Беги посмотри лошадь! Приёмник выключи.
В городе что-то придумывают — радио день-деньской говорит и поёт, утюг целый день себе нагревается, во всех комнатах горит свет, и печь электрическая включена, а счётчик не крутится. Что-то такое придумывают, и всё это даром получается. Надо будет поднести Ерджо стаканчик хорошей водки — пускай и у нас сделает счётчик, как в городе. Союз журналистов — очень даже хорошее место, они квартиру быстро дадут. Ну, да на всю Армению один Союз журналистов, а инженеров и ветеринаров хоть пруд пруди, сколько хочешь. Молодец сын, что писательскую линию развил. «Вы, конечно, не бюрократ и понимаете, что так может быть только в сюите и не может быть в жизни, поскольку сюита сама по себе, а жизнь сама по себе», — ну и что тут особенного, кто так не может написать, сказал Вазген, потому что ничегошеньки не понял. «Сюита и бюрократ…» Ещё в школе сын хорошо усваивал трудные слова. Она у него научилась слову «общественный» и употребила его против Симона, поскольку Симон работает, работает, гнёт спину для кого ни попало, а плата — завтра, будущей осенью, через год, никогда. Все на свете должны Симону. Нет, и не по писательской — по партийной линии должен был пойти Арменак, чтобы все дрожали перед ним, чтобы уважали. Если бы Арзуманян знал, что это внук Ишхана, непременно помог бы, поддержал. Внук Ишхана, сын Агун. Да, товарищ Арзуманян, той самой Агуник, сироты, которой так и не пришлось учиться в школе, про которую твоя сестра Мариам сказала: «Хорошая девочка, Ишхан, скажи мачехе, пусть не мучает столько». Которую потом, недолго думая, быстренько взяли да и отправили в Цмакут замуж. По партийной должен был пойти линии, чтобы звонить из центра — как, мол, товарищи, моя мать там живёт-поживает, как?
Эта жизнь один раз нам даётся. На этой большой зелёной земле, под этим большим красным солнцем всякий цветок один раз цветёт-расцветает. И всё. Дальше — тьма и мгла. Бог, когда проклял человека, сказал: «Увидеть тебе и не достичь». Отцовские палаты и мужнин хлев — это и есть божье проклятье, и если бы вдобавок ко всему ты сделался свинопасом… о-о-о, пусть бы меня молния в тот же день убила!
…Она укладывала яблоки в корзину и наказывала сыну про себя — меньше курить, есть яблоки, когда пишет, по ночам не работать, высыпаться досыта, не мучить себя. Человек, если счастливо живёт, долго проживёт. Корзина была тяжёлая, в её ноздрях запрыгал знакомый запах отрубей. Она увидела жёлтый ток и полные тяжёлые мешки, и старая боль на секунду подняла голову и, как змея, зашипела, захолодила в животе… Она тогда сильно надорвалась. «Давай подсобим тебе, ну…» — смеясь подмигнул ей Коротышка Арташ… И, закрывая за собой дверь марана2, она подумала, что каждый человек живёт своей жизнью. И радость сына принадлежит только ему, а на её долю приходится боль в животе, война с Симоном, весной забота о картофеле, летом забота о коровах, осенью забота о зиме. А сын получает охапками и тратит охапками. Если невеста человеком окажется, Арменак и наш будет, и её, если же нет, считай, что ты не рожала сына, не растила его.
Из оврага вышла и засеменила за изгородью свекровь — чуть-чуть постанывает, чуть-чуть покряхтывает, но ходит легко, легко. И не восемьдесят ей будто — всё ещё шестьдесят. Пятнадцать лет назад старуха упала и вроде бы спину повредила. Пятнадцать лет назад она разогрела кирпич, приложила к спине и повязалась шалью. Так что это ещё старое покряхтыванье, старый кирпич. Вот так. Хорошие рано умирают, а плохие постанывают и не умирают. Когда она пришла невесткой в их дом, свекровь была такая же, и вот они почти сравнялись — сколько лет прошло, а свекровь всё та же, не меняется. Глаз у неё нехороший — ежели в селе кто на охоту собрался и по дороге встретится с нею, тихо, молча поворачивает обратно, или, скажем, бригада направилась на покос в горы и вдруг откуда ни возьмись — она, — с полдороги возвращаются, едут прямо в контору: «Сегодняшний трудодень отдадите старухе Абела». А как покойный дядя Асатур сердился. «Опять ты передо мной встряла, ведьма проклятая!..»
— Милости просим, — усмехнулась Агун, — твоя палка не убила меня тогда, твой глаз меня не берёт. Заходи давай.
Уперев руки в бока, она подождала старуху, потом вспомнила, что должна презирать её. И, входя в дом, сдёрнула с ведра тряпку, чтобы старуха увидела каурму, и, стоя вот так посреди своего жилья, она вспомнила этот дом таким, каким он был в первую зиму раздела: неровные сырые стены пускали воду, печка нагревала только саму себя, в комнате холодина стоит, и в мокрых пелёнках барахтается ребёнок. Как она тогда закричала: «Ишхан!» — ох, что было, ветер загонял дым обратно, жена Мурада, Србуи, принесла старые мужские рубашки, а Симон в это время строил в селе клуб, он строил и шуточки отпускал — ещё и шуточки они шутят, ещё и острословят и смеются! Симон шутил, удачно так острил и был доволен собою. Ребёнок плакал без конца, надрывался, и она поняла наконец: в рубахах Србуи вошь водилась, ребёнок весь был в красных пятнах и горел в жару. Выхватив ребёнка из вшивых тряпок, она выскочила на улицу, побежала в контору и закричала по телефону: «Ишхан!» — и слова не произносились, потому что слёзы душили её и зоб впервые раздулся в горле, огромный, величиной с кулак. А Симон с топором в руках прислушивался к её словам и, заикаясь, говорил с крыши клуба: «Да ведь стыдно же… Послушай, стыдно, о чём это ты?..» Всю эту ночь Симон с орущим ребёнком на руках топтался возле печки, а утром… Ах, умереть мне за Самвела, утром чуть свет пришёл, раскрасневшийся, с потным лицом, розовый весь… шестнадцатилетний, шестнадцать лет было Самвелу, двадцать метров бязи нёс под мышкой… Умереть мне за Самвела… Ах, Самвел, Самвел, хорошие рано умирают…
И мать сказала сыну — из Цмакута в Ереван: «Ешь, пей, трать деньги, кури, гуляй, девушек меняй, твою долю страданий я уже на себе вынесла».
Старуха поглядела — хлев был на месте, сарай стоял, где ему и надлежало стоять, ульи, четыре парных и один отдельно, стояли поодаль, поленница была сложена на славу, перила все покрашены голубой краской. «Помереть мне за Симоновы руки», — сказала старуха.
Но Агун была полна слёз и жалости к Самвелу и остальным братьям — несчастному Вардкесу и пьянице, буйному и беспомощному Воскану. Агун не захотела даже ответить, сказать старухе, что Симоновой доли в этом хозяйстве нету, всё это её нервы и её жизнь, нет, Агун только заплакать захотелось, заплакать, засмеяться и сказать: «Ах, бабка, вспомни лучше, тебе надо было пойти на сороковины брата, а пойти было не в чем, и ты надела платье Асатуровой Манишак, а та не давала, и ты прямо выдирала из рук у неё это платье, а, бабка? Вот они, твои сыновья, какие, и твой муж был таким же».
Ведро до краёв полно каурмы, в корзинах яблоки и груши, яйца по одному завёрнуты в бумагу, интересно, что под ними, — Агуник? — пять голов сыра, это что же она так много с собой берёт, а масла столько зачем? — Агуник, — куда это она везёт столько еды, сорок кило — это же за год корова столько даёт — Агуник?
— А-уник! Ну что, что тебе, бабка моя, — вздыхая и прощая, сказала Агун. — Да, матушка, — и объяснила, как маленьким детям объясняют: — Это масло для еды, у него работа мысли, он не дрова рубит, как твои сыновья, да, ему надо много есть, чтобы голова работала, чтобы у головы сила была. Пишет он, пишет, — повышая голос, сказала Агун и показала, как именно сын это делает. — Здесь, видишь, каурма, если будет опаздывать на работу — два куска кинул в рот — и пошёл. Это яйца, не очень дорогая вещь, пятьсот штук, в день по десять штук — на месяц хватит, потом с кем-нибудь ещё пошлём… Да, матушка, невеста — высокая, русоголовая, здоровая, инженер, любит меня — с ума сходит, говорит: «Или ты переезжай в город, или я буду в селе жить…»
Весна была. Она возвращалась с родника. Старый монастырский родник, вода выпрыгивала из него, задыхаясь, холодная и чистая, в садах поспевала черешня, и на ровной прямой улице брат Арзуманяна катался на велосипеде… Были сумерки, а сама она тогда крепкая, краснощёкая, упитанная девушка была. Возле дома Арзуманянов она свернула к себе — у их порога стояли в сумерках двое мужчин: один русый, с высоким лбом и длинной шеей, другой был незнакомый, черноволосый и большеголовый. Русый был сыном её тётки, звали его Нерсес. И она почувствовала, что этот большеголовый здесь неспроста. Большеголовый был Симон. Потупившись, он стоял возле калитки и играл кончиком прута, водил им по земле. Она побежала к бабушке: «Нет, бабушка, нет, я не хочу!» А Симон смотрел и жалко так улыбался. «Нравится, Агуник, пойдёшь за него?» — на секунду присел к столу Ишхан. «Что её спрашивать, Ишхан-джан, — сказала мачеха. — Её спросить — она всю жизнь воду из родника будет таскать да бельё полоскать, на что ей муж». Нерсес вышел за ней и забубнил в нос: «Работящий парень, плотник, смирный, ну, словом, ремесленник, что ещё нужно… Приедешь в Цмакут, будешь к тётке в гости ходить, и я рядом, а он парень работящий, смирный…» Симон сидел в комнате, широкоплечий, подперев подбородок рукой. Ишхан вышел на балкон: «Хороший парень, Агуник, иди за него». За Ишханом выскочила мачеха и зашептала с жаром: «Не спрашивай её, Ишхан-джан, я при том парне не захотела говорить, она ведь глупая, её спросить — она замуж никогда не пойдёт…» И в это время из тёмного сада выступил Воскан и прорычал: «Это чья же сестра глупая, дарпасовская дрянь (мачеха была из Дарпаса), пятнадцать лет девчонке, это кого же тут замуж выдают?!» Воскан был пьяный, он упал на лестнице и тут же заснул. И она решила: она пойдёт с Нерсесом и этим парнем, пойдёт, чтоб никогда больше не видеть эту дарпасовскую дрянь и Ишхана тоже. Карпет из приданого дарпасовская мачеха незаметно припрятала, и материнский ковёр, который пришёл в дом Ишхана из Шноха, а в Шнох пришёл из Арчеша. Ах, чтоб тебе пусто было, дарпасовская дрянь, приданого всего-то и было этот ковёр да карпет с павлином и оленями, связанный тёткой Наргис. В Цмакуте с этого и начали. «В доме у князя Ишхана ничего небось не осталось, всё подчистила, всё сюда снесла, ахчи?» — сказал дед Абел. «В доме князя Ишхана я была слугой, была рабой, у меня там матери не было, апи3», — ответила она. «Ух-ух-ух! — сказал Адам. — И язычок прихватила, не забыла, кто тебя знает, так неожиданно пришла, так сразу явилась, я думал, может, она язык свой дома забыла». А Симон стоял в стороне и стеснялся сказать — не трожьте, жена моя, не ваша. А невестка Манэ исподтишка натравливала на неё всех, а в лицо жалела и утешала Агун. Спустя четыре месяца они решили, что она неродящая. «Да ведь шестнадцать лет мне, потому», — сказала она. «Придержи язык! — Свекровь стояла у дверей марана и хлопнула висячим замком об землю. — Язык придержи!» Со слёзами на глазах она подняла замок, протянула свекрови и сказала: «Дом ваш дворец, двадцать комнат имеете, только ребёнком бог вас обидел». И та, что сейчас греет спину кирпичиком и постанывает, — она схватила её за волосы и замолотила железным замком — по спине, по бокам, по спине, по спине, по бокам что было силы. В четырёх стенах ели-пили, стирали, мылись, одевались-раздевались, спали, вставали — дед Абел, старуха, Адам, Манэ, Симон, Арпик, Аракс Сиран, Акоп, Грачик, Аветик, Амалия, Вазген, она сама, родственники и знакомые из Овита, родственники и знакомые из Дсеха, родственники и знакомые из Хачера, да ещё и азербайджанцы, наведывавшиеся сюда из Касаха торговать. Пять коров и около двадцати овец, четыре ковра, две постели, несколько ульев, машина для качки мёда, швейная машина, и главное — самовар, чтобы по вечерам чаи распивать. Чаи распивать и всему селу косточки перемывать. Как бы то ни было, вот так они жили все вместе, и было жалко менять что-то и делиться ради какой-то ванкеровской девчонки: «Если б ванкеровская была достойная дележа — не пришла бы в одном ситцевом платье из того богатого края».
Они отправили Симона в Касах за хлебом, Нерсес собирался в Манац. «Отведи её туда, откуда привёл», — сказали ему они, нет, не сказали, не посмели бы так сказать, зная арнаута Ишхана, просто сердце разрывалось при мысли, что вот так она будет сидеть с ними, есть картошку с хлебом и смеяться над другими, плохо живущими и хорошо живущими, она состарится, умрёт и будет похоронена в этом Цмакуте, а в городе Манаце жизнь будет бить ключом. Нет! Они побежали в Хачер и в Овит, чтобы привести для Симона оттуда тихую, покорную, безответную тварь, кругленькую такую, толстенькую, а Симон, чёрный, весь в поту, появился в Ванкере: «Пришёл за тобой». Она показала на бока: «Смотри». — «А что я могу?» — сказал Симон. На станции Дзорагес она сказала ему: «Построим себе дом здесь, ты на станции будешь работать, и я тут же уборщицей». Теперь он нет-нет да и скажет: «А верно ведь ты тогда говорила, Агуник!» На станции Дзорагес она посмотрела на богатый прилавок просторного магазина, потом оглянулась на Симона и снова посмотрела на прилавок, и Симон был добрый, жалостливый и понимающий. Симон сказал: «Тебе трусики нужны, ахчи?», и она кивнула головой, и стала смотреть в другую сторону, и ей захотелось плакать. «Почему, а твои где же?» — сказал Симон. А её трусики надела одна из сестёр Симона, Аракс. И Симон зажмурился и сказал продавцу: «Сколько стоит?» И пока продавец отвечал, сколько это стоит, смуглый лоб Симона покрылся капельками пота, потому что в кулаке у него были зажаты две-три жалкие копейки. И, отвернувшись, она заплакала из-за Симона. Если между ними и было что-то вроде любви — было это в просторном, ярко освещённом магазине станции Дзорагес. Сестра отца Манишак первая увидела их: «Добро пожаловать, горожанка, для чего уходила, чтобы снова прийти?» Сестра отца Манишак стояла в своём саду, возле дома, который построила на воровстве Амбо, — тётушке Манишак трудно было ответить. «А она знает, где у нас окно, а где дверь — через дверь выйдет, в окно войдёт», — сказал свекор Абел, и она поняла, что напрасно вернулась. И пожалела, ох как пожалела, что вернулась, потому что они слабых поднимают на смех, измываются над ними как хотят, а перед сильными стоят проглотив язык. «Скажи им, скажи же… — она толкнула Симона локтем, — скажи, что жена твоя, не их». Они на один год отправили Симона в Дсех — к тамошнему плотнику в ученики — и про этот год любили повторять: «Столько на тебя сил потрачено», и Симон сказал отцу, заикаясь: «Апи… апи, если мы с ней отдельно заживём, апи, что скажешь, сумеем?» — «О-о-о, вон как дело пошло… Ну раз так, что я могу сказать, отчего бы и нет». Симона послали делать коровники на току, а эта старуха, которая сейчас кирпич приладила на спину и стонет, позвала её в хлев, закрыла плотно дверь… Ничего больше не хочу, чтобы так с кирпичом прожила ты двести лет, матушка. Шогер… Шогер сама была из Дарпаса, догадывалась, наверное, сколько всякого она натерпелась от дарпасовской дряни, Шогер пошла по воду и услышала её плач — пришла, вытащила её из хлева, увела к себе. И она поняла, что и в Цмакуте можно жить. С наступлением темноты её стали разыскивать, пришли в дом Шогер и, толкая и шпыняя, повели домой — свекровь и Манэ. В то лето она забеременела, и всё ей хотелось есть, есть, есть, но хлеб с сыром были заперты, и ключ запутался где-то среди заплат старухи, и за каждым шагом её следили, глаз с неё не спускали — Манэ, Аракс, Арпик, Сиран, Акоп, Грачик, Амалия… Однажды старуха отправилась в гости в Овит, Абел, Адам и Симон были в поле, и Манэ с девушками затеяла печь блины, ну и расправились тогда с маслом старухи, горшок наполовину пустой стал — вот тогда она и наелась досыта впервые. И ещё раз она поела вдоволь с невесткой тётки Манишака, потихоньку от тётки (при тётке кусок не шёл в горло — тётка ставила на стол еду и глаз с этой еды не сводила). Старуха вернулась и сразу же хватилась ключей: из марана вышла, как будто ничего и не случилось и вдруг как схватит Агун за волосы. У Агун тогда были длинные толстые косы. Из них самая жалостливая была Сиран. Сиран сказала: «Что тебе нужно от неё? Мы все вместе ели». Арпик было двенадцать лет, она расчертила землю клетками и скакала по этим клеткам. Аракс была просватана. Сиран училась шитью и кройке и была любимицей отца и братьев — старуха повернулась к Манэ. Манэ в это время мыла кастрюлю. Манэ прошипела: «Сейчас схлопочешь кастрюлей по башке, я тебе не ванкеровская сирота, поняла?!» Старуха попятилась. Старуха с минуту стояла растерянная, потом снова накинулась на Агун: «Арнаут, курд, арнаут, курд!» — «По животу бей, пусть щенок ваш издохнет, бей по животу, не нужен мне от вас ребёно-о-ок, по жи-воту-у-у!..» — «Заткнись, дрянь!»
Потом она каталась по земле и пихала эту землю в рот, чтобы вырвать, вырвать все ихние блины, и картошку, и их кусок хлеба, и ребёнка заодно, и тут её снова настигла старуха. Потом она сидела на краю гумна; облака плыли наверху в лазури, ястреб плавал под облаками, Шогер просеивала зерно, и дороги и тропинки наполнялись голосами, и только она была лишняя в этом мире и не знала, как умереть. Какая-то удивительная грустная жизнь рисовалась ей, вот она посадила сына под яблоней и сама села рядом. На яблоне спелые яблоки видны, и она бормочет, горячим шёпотом рассказывает сыну про своё сиротливое детство, про несбывшиеся мечты и о том, как ей всего три дня от роду было — её отец Ишхан ударил её сладкую мать Шогер, и её мать в минуту угасла, и как потом Агун вырастила её добрая бабка, как изводила её дарпасовская мачеха, житья не давала…
Овцы пришли, разбрелись по загонам, девушки отправились доить их, Манэ пошла подоить буйволицу, Акоп и Грачик стояли на дороге, чтобы перехватить своих коров, Шогер кончила просеивать зерно и поволокла его в двух мешках к себе и, проходя рядом с их домом, кликнула старуху: «Бабка Арус!.. Поди-ка сюда, что тебе скажу…» Хорошие рано умирают, а может, смерть их делает дороже? Старуха шагнула вперёд, Шогер медленно приблизилась к ней, они постояли друг против дружки с минуту, потом старуха взвыла. Шогер ещё раз ударила и, уперев руки в бока, сказала: «Шестнадцать лет ей, меньше твоих девчонок, да тяжёлая, совесть есть у тебя? — Она подождала, пока старуха поднимется, и снова ударила: — Смотри, старая, напущу на тебя сельсовет. Чтоб я голоса твоего больше не слышала!» — и повернулась, и поволокла мешки с зерном к своему дому.
На следующий день Шогер повела её на колхозное поле — жизнь большая-большая была: жёлтые поля шелестели, ходили из конца в конец, ей не позволили делать тяжёлую работу — голос Кочара звенел над полями, и солнце звенело, и жизнь была хороша. «Эй, ванкеровская… — кричали откуда-то сверху. — Дай на лицо твоё наглядеться, истомились, неси воду скорее…» Ах, куда делась та жизнь! Кочар позвал её: «Эй, ванкеровская, ежели Абелы не захотят, ребёнка твоего себе заберу, сама-то придёшь с ним?..» Хорошие рано умирают, где ты сейчас, Кочар, убили тебя или в плен попал, где-то, может, живёшь — твой голос до сих пор звенит над жёлтыми цмакутскими полями. Смерть делает жизнь дороже, и потому, бабка моя, я не хочу тебе смерти, кто знает, вдруг ты умрёшь, а я подумаю — хорошая была, жаль, что ушла. А потом вот что было. Тринадцать человек в четырёх стенах зимовать стали, да ещё и станок приволокли — тхк-тхк-тхк-тхк — для араксовского приданого ковёр ткём. И так они друг дружку любили — какое там врозь жить! — тут, если один раскрывал рот, чтобы высмеять другого, остальная дюжина мигом являлась на подмогу, и двухлетний Вазген тут же путался под ногами: он только начинал говорить, первое его слово было «апи» (в этой семье знают почёт, вместо того чтобы учить ребёнка словам «матушка», «мама» — первым делом прививают любовь к деду), первое, что сказал малыш, было «апи», второе — «арнаут». Они все дружно расхохотались, глядя на то, как Агун беспомощно возится со станком, не зная, как к нему подступиться. И старуха сказала: «Доить не умеешь, ковёр ткать не умеешь. Что же ты умеешь, жевать?» По правде сказать, она действительно ничего не умела, дарпасовская дрянь ничему её не научила, а где ей, сироте, было ещё выучиться. И в феврале месяце старуха взяла её за руку, и вышвырнула на улицу, и собаку на неё напустила. Сестра отца тётка Манишак сказала со своего порога: «Это куда ж ты собралась, девка?» — «Иду топиться». — «Вода-то замёрзла, подожди до весны». Манишак с невесткой, женой Нерсеса, ткали карпет, они взяли Агун за руку, повели в дом, усадили рядом с собой. На восьмой день начались схватки, старуха вызвала тётку Манишак и разругалась с ней: ты зачем же её взяла к себе?.. Хочешь, чтобы на наших глазах рожала, чтобы нам не по себе стало… Она твоего брата дочка, а нам кто, нам она кто?.. Ну раз взяла к себе, сама и будешь ходить за ними. Схватки начались, и теперь предстояло быть битой, руганой, травленой — с ребёнком на руках. И хотелось, чтобы ребёнок этот не родился, говорят, надо на голову положить подушку и грудь не давать или же дать грудь, а самой заснуть — задохнётся. Пусть не родился, пусть не родится, и тогда она сама себе хозяин — поедет в Тифлис, найдёт себе работу в городе, проживёт как-нибудь.
С вечным тесаком в руках прибыл Симон домой. «Симон, — крикнул ему с крыльца Нерсес, — сын твой Арменак родился! Армо, Арменак», — говорил Нерсес, как всегда, в нос.
Симон стоял под окнами и мял в руках шапку. Нерсес, накинув на плечи кожанку, прошёл рядом с ним, бросил мимоходом: «Иду к твоей матери, надо выяснить положение…» Продолжая мять шапку в руках, с непокрытой большой головой, Симон пошёл следом за ним… Окно было замёрзшее, на улице был ихний, плохой цмакутовский холод. На ванкеровском кладбище возле материной могилы тоже небось холодно, а Воскан напился сейчас и спит где-нибудь на улице… Тётка Манишак пошла в хлев доить буйволицу, буйволицу, говорят, доить трудно, грубая скотина, говорят, может затоптать тебя. Этот мир почему такой трудный? Деревенская бабка-повитуха хорошую жизнь предрекла ребёнку, а она заплакала и сказала: «Это не наша доля, бабка Кало». — «Не говори так, дочка, не знаешь ведь». Гулко шагая по замёрзшей грязи, ночью вернулся Нерсес: «Для тебя палаты построили, Армо…» Они согласились отдать ей с Симоном буйволиный хлев. И она снова заплакала. В доме у Ишхана полы крашеные, красные, потолок голубой, перила у балкона синие, деревья в саду белой известью обмазаны, хорошо, светло… А у Шогер в доме ковёр с оленями висит, да шесть штук ещё сложенные лежат, да ещё один рыхлый — на тахте. Печка у Шогер так и гудит от тепла, на столе, — солёная капуста и картофель… А станция в Дзорагесе ярко освещена, и гуляют там по улицам разодетые женщины, а у мужчин взгляд мягкий-мягкий… И она снова заплакала, а тётка сказала: «Мало было ребёнка, ещё и эта завыла… Замолчи сейчас же!..» И она заплакала тихонько, про себя. Возле двери были привязаны буйволы, верхний угол принадлежал ей и ребёнку. Симон уходил на работу, возвращался вечером, вечер коротал в доме отца, ночью приходил, спал в хлеве, утром снова шёл на работу. Шогер, случалось, приносила ей миску обеда или просто кусок хлеба. И тётка пойдёт по воду, да и заглянет к ней. Проходя рядом с хлевом, свекровь зло прислушивалась — живы они ещё там? Посуды, чтобы разогревать воду, не было, пелёнок не было, люльку Симон сделал, да негде было поставить. Обед сварить и то не на чем было. От злости и голода она лопалась. А ребёнок хныкающий, болезненный, а сама она, чтобы песней ребёнка успокоить, так песням не обучена. Сунув ребёнку грудь, она бегала по хлеву из угла в угол. Раз огонь потух, она побежала к Мурадам за головёшкой, вернулась — и что же видит: дверь в хлев распахнута, буйволица в верхнем углу, люлька опрокинута и загажена, ребёнок кричит-надрывается, а старуха спокойно, как ни в чём не бывало несёт сено буйволице… А её отец Ишхан, её отец Ишхан ласково посулил из Манаца: «Если вырастет хороший парень — наручные часы ему подарю». В апреле всё стало таять, с крыши потекло. Тётка Манишак закончила ткать карпет, начала ковёр. Тётка Манишак взяла её с ребёнком к себе. Тётка с невесткой должны были ковёр ткать, а она воду таскать, дом подметать, хлев чистить, смотреть и учиться. И Ишхан, бессовестный Ишхан похвалил их ласково из своего Манаца: «Молодцы, вот так и помогайте друг другу, человек родичами жив». В начале мая подохла одна из пяти коров Абела — они сказали, что это была доля Симона. Симон промолчал и согласился. В конце мая ребёнок выпал из люльки, и лицо у ребёнка разбилось. С захлёбывающимся ребёнком на руках она побежала к Парандзем, а та сказала: «Ну и что ребёнок — поплачет и успокоится». Она побежала к Мурадам, там играли в карты: «Кровь идёт? Пойдёт — перестанет». Она побежала к Шогер: «Жалко, личико у ребёнка попортилось». И она не находила себе места в этом большом мире.
В июне они ещё жили в хлеве. Оставив этот солнечный божий свет, они сидели в хлеве, среди навозной жижи и блох. В конце июня Симон в первый раз побил её. Симон тогда делал рамки для клуба, он принёс вдруг портрет Аразуманяна в новенькой, только что сделанной рамке и повесил. Она сказала: «Палаты свои… палаты украшаешь? — Симон повернулся и ударил её. С ребёнком на руках она встала перед ним: — Убивай и меня и его, хватит уже, не могу больше так жить!» Он повернулся, чтобы пойти в свой колхоз, она преградила эму дорогу: «Дом будем строить!» — «Это на какие же шиши?» — «А ни на какие — своими руками! Иди и строй. — Симон оттолкнул её и вышел, она выбежала следом, стала перед ним: «Дом строим!» Симон отпихнул её и пошёл. Она снова обогнала его и опустилась на колени: — Дом строим…» — «Не строим». — «Переезжаем в Манац». — «Очень нужно!» — «Дом строим!» — закричала она.
Симон замахнулся тесаком, и тогда она закричала что было силы на весь белый свет: «Хватит уже, хватит! Мой сумасшедший отец весь твой род в могиле сгноит и тебя тоже, тебя тоже!» И она захотела сама ударить его и увидела, что ещё немножко, ещё чуть-чуть — и она сойдёт с ума.
Колхозное собрание решило помочь Симону. В конце ноября они уже были в доме с не высохшими ещё, сырыми стенами. Песок был в нижнем овраге, воду брали из верхнего оврага, каменоломня — возле дома Атоенца Степана, известь — на опушке Танзут, дерево — в лесу. И по всем этим дорогам носилась, прямо-таки летала молодая, здоровая и крепкая Агун. А в люльке под грушей гулькал ребёнок, и с недостроенной стены любовался на Агун старый каменщик из Муша. Воскан пришёл и помогал около двадцати дней. Ишхан прислал пять кило гвоздёй. Сам Симон разрывался между колхозными делами и строительством. Что и говорить, мир был хорош, но люди — люди всё же были нехороши: половину досок из мастерской украли, потом молчаливый спор пошёл вокруг старого дубового ствола. Симон захотел приспособить его под поперечины, но притащил дуб в мастерскую Адам; спилил и обработал дерево Симон, а на волах приволок бревно в мастерскую Адам, значит, бревно было Адамово. Мушег отдал Симону свои поперечины, но их не хватило. Симон взял из мастерской одну из Адамовых поперечин. Адам с волами явился и, сминая по пути картофель, лук, заросли фасоли, поволок свою поперечину туда, где намечал строить свой дом. И тогда Симон пустил в ход сырую, невысохшую поперечину — вон она, видна до сих пор, кривая и безобразная. Потом явился Атоенц Степан: нечего, мол, возле его дома яму рыть, и вообще — каменоломня его. Прав он был или не прав, но Симон взбесился. Степан толкнул Симона, Симон с заступом пошёл на него и на его сына Ашота, ударил, разбил им обоим спины и продолжал разъярённо копать карьер. Четверо мужчин скрутили ему за спиной руки, привели домой, и целый месяц после этого он сходил с ума от головной боли. Потом сельсовет дал Симону разрешение пользоваться каменоломней, но он, как ребёнок, обиделся и не стал брать камень оттуда, а стал возить из далёкого Каркапа: потому и часть стен коричневая, а вообще стены из серого ломкого каркапского камня. Пионеры трубили в трубы и собирались в школу. Детский сад чистенькой толстушки Майи, щебеча, направлялся играть под деревья. Девушки, распевая песни под лунным светом, спускались к колхозным полям. Нерсес на лошади носился из поля в поле, из села в Манац, и Агун вдруг увидела, что любит Симона. Она заплакала над собой и над ним. И пьяница Воскан, и пускающий пыль в глаза выскочка Нерсес, вор и грабитель Ишхан, распутная и расчётливая тётка Манишак, заботливая и благополучная Шогер, ломака Сиран со своей швейной машинкой — всё это было ненавистно ей и даже был ненавистен этот ребёнок Армик, у которого были и отец и мать и впереди — образование и будущее.
Посреди дома был большой камень, Симон хотел поддеть его и надорвался. Старуха явилась, положила ему на живот яху4, потом пришёл Адам: «Из-за поперечины ты, верно, обиделся на меня, Симон, напрасно… а я вот пришёл камень вытащить…» Симон ему ответил: «Нет, Адам, не к спеху это, у тебя другие дела поважнее найдутся, ступай займись ими, а камень не мешает, пускай себе пока лежит». И Агун ещё сильнее полюбила Симона. Агун выбросила яху старухи, смастерила яху сама, не очень-то хорошо смастерила — не помогло почти, но ведь главное, что своими руками, сама. Пока ещё живот болел, Симон занимался лёгкими делами — дверь и окна навесил, кровать смастерил. Ту, что родители дали, выбросили. Место для свинарника наметил, расчистил, конуру собачью сколотил, за тёлочку и воз сена пятнадцать ульев Мушегу смастерил да Арташу — семь ульев, за порося починил дверь Гикору. В этом доме все предметы, вплоть до ухвата, взамен которых кузнец потребовал у Симона топорище для топора, черенок для лопаты и ещё кое-что в придачу, — в этом доме каждая вещь, вплоть до последнего щенка, которого Сако дал будто бы бесплатно, но точно так же бесплатно дал обрамить Симону портрет своего отца, — в этом доме всё, включая ржавую железку, об которую чистят ноги, — всё: топор, обручи для бочек, яблони, пчёлы, семена укропа, капустная рассада — всё в этом доме появлялось с трудом, рождалось, как ребёнок рождается, — с болью, с кровью, мучительно, и ничего не далось легко, ничего не снеслось, как яичко, только деревянные ложки явились неожиданным подарком: как-то вечером на пороге возник дед Никал, свинопас: «Пришёл ваш дом поздравить, до чего ж хороший дом себе построили… Эти ложки для вас сделал, обед будете кушать… И миски сделаю, не думайте, трудно мне, что ли…» Мир праху твоему, дед Никал.
В новом доме печка сеяла тепло кругом, и лампа полна была керосина, и в бутылке тоже был керосин. Снаружи если смотреть — окно их тёплое, запотевшее. Старуха думала, Агун заворожила её сына, и он сидит сейчас с нею, и к ней обращает свою добрую улыбку, и с нею делит их родовые шутки-прибаутки. Так не бывать же этому! Но этого ведь и не было. Симон избивал её. В этом доме каждый предмет возник ценою побоев. Теперь не бьёт, стар стал, да и плевать уже на достаток, главное в жизни — здоровье и радость, поскольку человек не цветок, один раз на свет является и в этой большой могучей вечности не повторяется больше, не возрождается. Но старуха думала, что сын с невесткой живут в ладу. Овитовский священник сказал ей: «Стыдно, бабка, что тебе от молодых надо? Пускай себе живут». Подобрав подолы, старуха метнулась к дсеховскому священнику, потом к кироваканскому. Чтоб всё это тебе же на голову и обрушилось, бабка моя. Старуха давала писать заклятия священникам. Ох и замучила ты меня тогда, бабка! В Симоновом одеяле Агун нашла треугольную навощённую бумажку. Потом в мутаке5 нашла, потом в подушке. До сих пор ещё нет-нет да и высунется такая писулька из тюфяка. Агун гостила у отца. Ванкеровский священник сказал ей: «Муж твой с тобой плохо обращается, дочка, над вашим домом проклятье есть, но муж твой хороший парень, будете заодно — зло рассеется».
Она вернулась, рассказала всё Шогер, и Шогер вроде как осенило. Шогер вдруг побледнела: «Ахчи, дай-ка мне заступ…» Они копнули у порога и, чтоб тебе неладно было, бабка, чтоб неповадно было, нашли писульку под ступенькой. Когда она была в Ванкерах, Шогер видела, как старуха выходила из их дома. Это была особая записка, в неё были завёрнуты волосы Агун. Агун вспоминала, что волосы отрезала ей Сиран, а Сиран, значит, снарядила к ней тогда старуха. Симона всё ещё одолевала головная боль, волк в ту зиму забрался в хлев, задрал всех овец. Тёлка осталась в хлеву одна, простудилась, околела. Старуха перешла овраг, взобралась к ним, стала оплакивать тёлку и хлопотать вокруг сына. Агун терпела-терпела, потом не стало мочи — подскочила и сунула ей под нос её бумажку — держи, мол, своё благословение. Симон вскочил с места, ударил Агун. Агун, проливая слёзы, молча собралась, ушла к тётке. Тёткина невестка пришла, забрала ребёнка. Потом Симон выгнал мать и остался один на один с остывшей печкой, без чая, и некому было сменить тряпку ему на лбу. Пришла сестра Сиран с одним яблоком, захотела разжечь печь — Симон запустил в неё сахарницей и одеяло с себя сбросил, остался лежать непокрытый. Дверь настежь, и грыжа на животе вздулась… А Нерсес спал, подложив руку под голову жены, нога на колыбели, рубашка у Нерсеса была белая-пребелая, и печка в их доме горела всю ночь. А в их с Симоном хлеву дверь не заперта, и внутри околевшая тёлка, и кур, наверное, лисица уже уволокла. И дорога к дому — через кладбище… Она окликнула разок: «Нерсес!..» Но потом больше окликать не стала. Потом она себе сказала: «Не будь я из Ванкеров, если я побоюсь их жалкого кладбища». И она взяла головёшку из печки, и ребёнка на руки взяла, чтобы разговаривать с ним по дороге и не помнить про кладбище, и пошла. Увидела: дверь раскрыта, посуда на полу битая лежит, чужая кошка по дому шныряет, одеяло сползло, а сам Симон окоченел, синий весь лежит. Она сказала: «Симон мой, брат мой, да что же это мы с тобой делаем!.. Ведь я сирота, ведь ты жалеть меня должен…» Но времени разговоры вести и даже печь разжечь уже не было, она разделась и голая, в чём мать родила, легла рядом с ним, чтобы согреть его собой. И времени, чтобы как следует одеться, тоже не было. Она выскочила, кое-как натянув на себя платье. Ни в одном доме света не было. Она побежала к тётке за огнём. Возле кладбища, глухо переводя дух, бесшумно выскочила свора собак. Что скажут врачи — это их дело, но болезнь печени у неё с этой ночи и началась. Дверь у тётки была заперта, пришлось постучаться, тётка сказала: «Ахчи… ахчи… в доме одномесячный ребёнок, невестка и сын спят, ты как же это уходишь, дверь за собой не затворишь!» Она взвизгнула: «Огонь мне нужен, Симон умирает, за огнём пришла!» — «Ну и надоела, сил нет, — пробубнил Нерсес, не просыпаясь, сквозь сон. — Разводишься — разводись, и мы вздохнём спокойно, не разводишься — дай хоть людям спать…» Она хлопнула дверью и сказала: «Ну так пускай умрёт человек!»
Тётка Манишак прибежала всё-таки следом, принесла огня и масла с мёдом принесла. Ещё нужно было молоко, Агун снова пошла через кладбище. Ветер пронизывал всё тело, и то холодно ей было, то жарко — печень её в ту ночь испортилась. Простуда у Симона быстро прошла, но головная боль ударила в глаз и сожгла зрачок. Он хватался за голову и катался по постели: «Голова моя, головушка!»
И она плакала с ним вместе, потому что и её голова тоже стала болеть. Сырой дом был, надо было топить и топить печь. Она брала в руки топор, размахивалась, и голова у неё начинала гудеть, и в глазах темнело. И это было как раз в то время, когда мурадовская Србуи принесла мужские рубашки на пелёнки. Симон тогда работал на строительстве клуба и шуточки там шутил, остроумничал, а у ребёнка от вшивых тряпок вся кожа пошла волдырями, и она крикнула в телефон, задыхаясь: «Ишхан, мать мою убил и меня со свету сжить собираешься? Под суд отдам!..» И Самвел на следующий день принёс двадцать метров белой бязи. Мужчины с крыши клуба слышали каждое её слово, а Симон сказал ей, заикаясь: «Стыдно, ахчи, стыдно…» А Коротышка Арташ цокнул языком: «Ну не женщина, готовый председатель колхоза». Во время войны она ответила ему: «Хорошие должности вы нам не отдадите, не так?» Коротышка Арташ дал ответ через месяц — когда она надорвалась под тяжёлым кулем. Коротышка Арташ сказал тогда, смеясь: «Давай подсобим…» Она подошла к нему, и схватила его за голову, и пригнула к земле. Шушан взвалила тюк ей на спину. Она приволокла с гумна три тюка, а под четвёртым села.
Коротышка Арташ, то ли чтобы получить пенсию, то ли чтобы увеличить её, пришёл в Ереване к Арменаку и сказал своим льстивым языком: «Не может быть, чтобы у тебя в министерстве знакомства не было». Арменак отказал: «Знакомства нет, а если говорить по правде — охоты нет возиться»…
Вот так. Мир, он приходит, уходит, а мы — крепкий род, мы наше существование продолжаем.
И, будто бы снимая пыль с дорогого радиоприёмника и будто бы поправляя шёлковую скатерть на столе, Агун сказала свекрови с фальшивым вздохом:
— Состарилась, бабка моя, без мужа небось трудно, — и посмотрела на стену, завешенную ковром, на оленя на ковре.
— Да, апи, когда уходил, и меня должен был с собой забрать, зачем было оставлять меня одну.
— Нет, почему же, матушка, — дрожа, сказала Агун. — Хлеб есть, сыр есть, зубы твои целы, слава богу, и сыновья твои все трое к твоим услугам, и солнышко греет, нет, почему же, почему забрать?
— Да, — сказала старуха, — каждый человек своему горю хозяин.
«Они ещё и думать умеют, ещё и рассуждают, смотрите-ка, какие красивые слова говорят».
— Ничего, бабка моя, — сказала Агун, — и горе на земле есть, и цену этому горю неплохо знать. А что же делать бедной Шушан, Сона, Асмик, гикоровской Марго, нерсесовской Марго, Вард, Мариам, Гоар, бедной крикливой Маро, Сато, что же им говорить, если в двадцать пять лет безмужними остались?
— Хорошо тем, кто ушёл, плохо тому, кто остался. Пока Андрэ был здесь, Шушан его поедом ела, а как Андрэ не стало — Шушан горемычной вдовой сделалась?
— Верно, матушка, верно. Мужа ела поедом из-за зловредной свекрови. Теперь божьей волею свекрови не стало, теперь, может быть, и в мире бы Андрэ с Шушан жили.
— Ни одна мать ребёнку своему зла не желает.
— Зла не желает, матушка, только добра хочет, да вот так получается, что всё подряд крушит.
Старухе понравился ковёр с оленем: «Ворс только длинноват», — и, проведя рукой по ковру, она сказала:
— Провалиться тому, кто крушит.
— Провалиться, провалиться, о чём я и говорю, матушка.
Старуха благословила руки, которые сделали такие прекрасные стулья и такой прекрасный стол, потом ощупала скатерть, и скатерть ей понравилась, скатерть была достойна её сына и её невестки.
— Корову доить — нелёгкое дело, но выучиться можно, а ковёр — два-три раза поглядишь, как другие ткут, можешь сама садиться за работу, но, — сказала старуха, — на язык замок не повесишь. И красивая была, и ладная, — сказала старуха, — а когда с вёдрами сбегала к роднику — любо-дорого было на тебя смотреть, но из-за злого твоего языка у Симона житья не было, и сама ты трёпки немало из-за этого отведала, а весь наш род стал потехою для села.
— Хочу, — играя бровями, сказала Агун, — хочу, матушка, этот ковёр отвезти Арменаку. Что скажешь? Вот этот, да, с оленем.
— Нет, — сказала старуха. — Оставь пока. Если невестка хорошая окажется, тогда и отдашь, а ежели выродок какой, напрасно только добро моего сына переведёшь.
— Ишхан был выродок, Абел не был выродком. И Ишхан умер, и Абел. Всем нам дорога туда, все умрём, сначала старые, потом малые. И Ишхана похоронили, и Абела. На похороны Ишхана, бабка моя, десять машин с народом из Кировакана прибыло, пять машин из Тифлиса, десять — из Еревана. На могилу целый грузовик цветов вывалили, и военный оркестр играл. Из Сочи и то человек приехал. А сколько человек провожало моего свекра Абела? Адам, Симон, Акоп, Аракс, Сиран, Арпик. Шли, посапывая в платок, да ты в чёрном платье своей золовки Тамар. — И, подождав, чтобы всё сказанное как следует дошло до старухи, чтобы старуха заново пережила тот стыд и ту боль прошлых лет, Агун продолжала рассказывать медленно, как сказку: — Десять лет, как нет на свете моего свекра Абела, десять лет лежит бедняга на кладбище без камня. Другие вчерашнему покойнику сегодня уже памятник ставят, а мой несчастный свекор — ни сыновей у него, можно подумать, не было, ни жены, ни хозяина над головой — так, прохожий был, умер, похоронили — и баста, никаких больше дел с ним. Прохожий. Чужак. Но сыновья-то есть, сыновья садятся у себя дома за стол, — где хлеб, где сыр, наливайте чай, не осталось больше в чайнике, если осталось, ещё чашечку. Садятся и перемывают косточки сааковскому Тиграну, атоевскому Степану, бежановскому Анушавану, асоровскому Тиго. Очень хорошо делают, бабка моя, пускай себе смеются на здоровье. Оттого и крепкие они, оттого и ничего им не делается. А я и день и ночь и себя грызу, и их — я потому и выгляжу так — на все семьдесят в свои сорок. Камень, если только память у тебя не отшибло, заставила твоего сына обтесать я, — сказала Агун. — Он меня бил, а я говорила — твой отец без камня лежит, стыдно, у твоего отца целых три сына, все три, благодарение богу, живые-невредимые с войны вернулись. Нехорошо, что отец трёх взрослых мужчин без камня до сих пор, как беспризорный, лежит, я так говорила, а твой сын Симон, бабка моя, замахивался в это время на меня, с кулаками шёл. И другой твой сын, Адам, глядел на это со своего порога и говорил: «Получше бей, чтоб её, не нашу». И ты тоже, бабка моя, — горько, горько проговорила Агун, — ты тоже со своего порога приговаривала: «Извела, вконец извела моего ребёнка». И, — Агун на глазах старела, лицо её сделалось какое-то серое, — и обтесали камень, обтесать-то обтесали, да толку-то всё равно никакого, камень тот до сих пор в дсеховском овраге валяется, вот уж семь лет. И, — с отвращением сказала Агун, — ждёте, чтобы я и приволокла тот камень, через побои, как всегда. Ну нет, кончено, не хочу больше. Посмотри на меня, не сорок мне — восемьдесят. А тебе не восемьдесят — сорок. Плачешь? Ничего, поплачь немного. Я тоже в своё время достаточно наплакалась через тебя… — И, оставив старуху в доме, Агун вышла, чтобы не видеть её слёз и не чувствовать жалости к ней, поскольку род этот не жалости достоин, а того, чтобы быть преданным огню.
Зачем она вышла? Да, ведь в Ереван же едет, собираться надо. Фу-ты, а ребёнок где? Ребёнка она сама отправила лошадь посмотреть, где же этот пострел болтается столько времени?.. Осеннее солнышко грело землю, молча ронял листву ближайший лес, а яблоки на яблонях налились, пламенели среди листвы. Жёлтым мёдом плавилась груша, накалялась связка перца, и дремала, свернувшись возле конуры, собака. Ребёнок был в саду, он тряс персиковое деревце, потом выбегал из-под него и смотрел, как сыплются листья, потом нагибался, подбирал их, снова тряс дерево и снова выбегал из-под него. Деревце это Агун принесла из Ванкера, здесь оно плодов не давало, но красивое было, и Симон сказал — пускай останется. А половина ветвей у большой груши была зелёная-зелёная, там такой сорт привит, который в декабре поспевает, а листья до самого января остаются зелёными. И так далее, и так далее, и так далее. Агун хотела сказать: «Серо, ты что это там делаешь? Иди уроки готовить», — и не смогла. Увидела, что задыхается. И, присев на бревно, Агун заплакала. И, плача, подумала, что младшего в Ереван не отправит, пускай работает здесь шофёром, или трактористом, или зоотехником, пускай вечером приходит домой, а в доме невестка сидит, а сама она то на невестку любуется, то на сына. Ястреб тех дней всё ещё плавал под облаками, и клич его простирался над Цмакутом, над лесами и садами, над могилой бедной Шогер… И Агун сказала сквозь слёзы и улыбаясь, Агун сказала свекрови:
— Слушай… слушай, а помнишь, как ты слух распустила, будто я шлюха, с чужими путаюсь…
— Ну ладно, — миролюбиво проговорила старуха. — Что было, то было. Плохая была, тебе пусть наукой будет — с невесткой хорошо обращайся.
— Я неуживчивая, хорошая попадётся — ладить будем, плохая попадётся — ты знаешь, я неуживчивая. Господь меня такой создал, чтоб и себя грызла, и других. Да только… — плача, сказала Агун, — только всё равно себя одну и извожу, остальным ничего не делается.
— Давай я одно лето посторожу дом, а ты поезжай полечись в городе.
— И здоровье один раз даётся. Врагу не пожелаю попасть в лапы к врачам.
— Зарик ведь вылечилась.
— Зарик — жена Ашота, а я жена твоего сына Симона. Вот ты пятнадцать лет с кирпичом на спине ходишь.
— Симон не врач.
— Симон кузнец, бока и башку мне отбил.
— Через язык твой.
— Ох, вырвать бы, вырвать бы этот язык, раз он вам так мешает жить!
— Женщина должна быть женщиной. Когда выдавали дочку кузнеца Цовинар, мой Симон сидел возле гумна и плакал: «Нани6, Цовинар красивая, правда?» У мурадонской невестки то ли пяти-, то ли десятилетний ребёнок уже был, мы собрались невестку из Овита привезти, а Симон заплакал, сказал Адаму: «Нет, я её люблю». Ослепнуть мне. Двадцать пять лет живёшь в этом доме, одного тёплого слова не сказала моему ребёнку. Женщина должна быть женщиной, а ты никогда не была женой Симону. Цовинар вышла замуж, ушла, мурадовская невестка состарилась в мурадовском доме — моего сына ты должна была любить.
— Всё у вас на месте, только любви вам не хватает.
Старуха поднялась:
— Пойду, не буду тебе мешать.
— Если что ещё хочешь сказать — говори. А тот, кто мне помешает, такой ещё не родился на свете.
— Грубая ты, — проворчала старуха. — Всё в тебе хорошо, только грубая очень.
— Не была бы грубая — до сих пор бы в вашем хлеву в обнимку с буйволами сидела. Встань сейчас же с холодной земли! — крикнула Агун на ребёнка. — Ещё одно горе на мою голову!
— Что было, то и дала, сама не в дворцах жила. Был хлев — хлев отдала. Что-то я хотела тебе сказать, — растерянно остановилась в саду старуха. — Забыла, зачем шла.
— Как же, корова была — корову дала.
— Дала, а она сдохла, что же делать, если всё нам с трудом даётся.
— Сдохла — потом отдала. Но это ещё ничего, корова и у меня могла околеть. А твои шашни со священниками, твои записочки, до самого Кировакана ведь добиралась, чтобы потом принести писульку, под порогом захоронить. Хочешь, покажу?
— Ежели не стыдно, покажи.
— Не мне — тебе стыдно должно быть.
— Я хотела, чтоб вы в любви жили.
— В нашем роду такой товар не водится.
— Вроде бы так, Агун-джан, вроде бы так.
— У нас в роду люди работают, не тратя время на нежности. Да и сын твой не очень-то любви достоин.
— Пошла бы да и нашла себе достойного, а моего сына оставила в покое, я только этого и хотела.
— Да сирота ведь я была, куда мне было идти? Матери-то не было у меня, чтобы под её крыло от вас бежать.
— Матери не было, отец был, братья были, дед с бабкой были. Отец твой целый город грабил, ел.
— Не для меня грабил, сам ел.
— Верно. Потому и говорю, что с Симоном мирно должна была жить.
— А что ж я ещё делала, чем же я не мирно жила? Что я, сожрала твоего Симона, что ли?
— Жрёт собака, сама себя не оскорбляй.
— А я и есть собака, с плохими я хуже собаки, а с хорошими верна, как собака. Каждый получает от меня то, что ему причитается. Что могу, то и отдаю, чего нету, того дать не могу, и не ждите.
— Верно. О том же и я говорю.
— Что верно?
— Что сын мой от тебя любви не видел.
— Мы в этих ваших любвях не разбираемся.
— Каждая женщина должна быть любовью для своего мужа. Когда Абел возвращался с покоса или из хлевов или зимой из лесу приходил, я его в корыто сажала и горячей водой либо тёплой водой — какая бывала — купала. Симон от тебя ласки и любви не видел.
— Моя любовь — это мои дети.
— И моя любовь — мои дети были. Я своим детям добра желала.
— Про плохого, умру, никогда не скажу «хороший», будь это даже мой ребёнок.
— Сука, — незло и любовно, на правах свекрови пробормотала старуха. — Придержи язык. Постыдись.
Под ногой был очень даже удобный прут, а словами этих людей никогда нельзя было пронять, но, если бы она пустила сейчас в помощь словам палку, виноватая бы осталась она, и голова бы потом разламывалась, болела — у неё. Агун поднялась, огляделась и сказала себе, что этот дом, этот сад, этот хлев, собака, две коровы и две тёлки и незарегистрированный телёнок — всё это её, и ещё есть двадцать овец и семнадцать свиней, а мёд уже весь выкачан и разлит по глиняным горшкам, а такой сын, как Арменак, живёт в таком месте, как Ереван. Что ещё надо! Её сын Арменак критикует в газетах секретарей райкомов, а её муж Симон день-деньской звенит топором и пилой, зимой полы настилает, потолки, летом в поле работает, в дождь дома… Тридцать несушек квохчут во дворе… Агун сказала всё это себе, а потом ещё прибавила, что ей сорок три года всего и впереди сорок лет тихой и спокойной жизни, и к ней, погодите-ка, ещё будут приезжать к ней из города умытые, причёсанные внуки в коротеньких платьях — они будут гостить у неё каждое лето, будут ловить бабочек на городской манер и говорить друг другу с ереванским акцентом, стоя под белым цмакутским солнцем: «Ты, Самвел!» — а невестка — горожанка горожанкой — будет щурить глаза от яркого дневного света и стоять, обратив лицо к реке: «Самвелик! Иди домой обедать!» А ну постой-ка, о какой это они любви тут толкуют?
— Сына своего в грязной рубахе когда-нибудь видела?
— Нет, — ответила старуха.
— Постель сына грязной видела?
— Нет. Не видела.
— Бывало, чтобы он голодный к тебе пришёл?
— Нет.
— Видела, чтобы я в новом платье сидела, а он в старом, — такое видела?
— Не видела.
— Каждый раз, пока заставлю сбрить щетину, полжизни моей уходит. Сколько могла, столько и делала. Чего не было, того не могла выдумать. Я не егоровская Сируш, чтобы путаться с Арташем и мужу в лицо улыбаться. Или чтобы корову продать, а себе часы купить, или чтобы овец продать — туфли купить. На высоком каблуке, — сказала Агун. — Зачем пришла, говори!
Возле дома Адама застучал топор.
— Дитятко моё проснулось, — сказала старуха, — Адам. — И дрожащими губами старуха то ли молитву прошептала, то ли проклятье, потом сказала вслух: — Адам, Симон, Акоп, Аракс, Сиран, Арпик. Арпик моей нету уже, моё было время — Арпик ушла. Дочка моя несчастливая вышла.
Филоевская Арус шла по воду. Всё толстеет и толстеет Арус. И смеётся, смеётся всё. Когда Агун убежала в Ванкер и эти, задрав подолы, кинулись искать девушку для Симона, им тогда приглянулась эта самая Арус из Овита. Крышка катится — находит свой горшок, точь-в-точь подходила она им: сидела бы с ними и чай пила, так бы и прожила всю жизнь в хлеву (благо сваи там дубовые, сто лет продержались бы). И не надо было бы гнуть спину на строительстве дома и слепнуть от известковой пыли. Тут бы она к месту пришлась, а то бедный Фило всё тянет и тянет из колхоза, а спят они всё равно в старом тряпье из отцовского приданого. И смеются, смеются безвкусным, как картошка, смехом. А в чём дело, почему так смеются — купили кровать с сеткой, спокойно спать не могут: Арус тяжёлая, Фило лёгкий — скатывается, падает на Арус. По-видимому, в их понятии это и есть любовь. Нет, у нас этого нет, у нас овца нестриженая, у нас картофель невыкопанный, наши свиньи потерялись в лесу — мы не можем сидеть сложа руки и смеяться.
— Арус! — позвала Агун.
С вёдрами в руках Арус остановилась.
— В Ереван собираюсь, пока ведро наполнится, поди, чего тебе покажу.
— Далеко идти-то, — засмеялась Арус.
— Трудно, что ли? — удивилась Агун.
— А то, думаешь, легко? — засмеялась Арус.
— А как же я каждый день поднимаюсь?
— Ты — Агун, — засмеялась Арус.
Топор возле дома Адама замолчал, в тёплой ушанке под жарким летним солнцем возле вечной своей телеги стоял Адам и, хлопая глазами, укладывал слова в предложение. Глядя на Агун и мать, он долго подбирал, обкатывал в уме слова и сказал в конце концов:
— Беседуете?
— Да, — сказала Агун. — А тебе что, холодно?
Адам похлопал глазами, похлопал, потом спросил:
— Это кто, бабка наша?
— Бабка, да, — сказала Агун. — Любимая ваша матушка.
— Гм, — усмехнулся Адам.
— Что? — спросила Агун.
Про Адама они сами рассказывают, что в четырёхлетней школе в последнем классе, когда надо было прочитать наизусть поэму Ованеса Туманяна «Парвана», он заплакал и сказал: «Говорить трудно, да ну!..» — хотя знал ту поэму назубок. И вот этот Адам поглядел сейчас на мать и на невестку, поглядел, поглядел и вдруг соорудил целую конструкцию из слов:
— А ты что же, положила бабку на обе лопатки?
Это на собраниях Адам сидит проглотив язык, а против Агун он вон какой языкастый и насмешничать может ещё как. Когда он после пятилетней отлучки возвращался из Германии, Агун, приплясывая от радости, побежала ему навстречу, чтобы обнять его, обнять-расцеловать, а он отстранился и сказал: «Вот тебе дорога, ну-ка, можешь одним махом добежать до Ванкера? Да там и остаться…» Вот так они нашу радость всегда в слёзы превращали.
— В Ереван еду, — сказала Агун. — Некогда мне тут о всякой чепухе с вами болтать.
— Доброго тебе… — Адам покряхтел, покряхтел и с трудом нашёл следующее слово, — пути. Для меня одну… — Адам задумался в поисках слова, голова Арус замаячила в маленьком овражке, старуха то ли молитву, то ли проклятье бормотала, Арус уже выбралась из овражка — Адам всё ещё не мог закончить предложение.
— Для тебя одну ушанку привезти, — сказала Агун.
— Да, — засмеялся Адам. — Посмотри, если… — и снова будто наткнулся на препятствие.
— Посмотрю. Если будет, привезу. Тёплую-тёплую, лёгкую-лёгкую, чтобы и в августе носить, и в январе.
Адам ещё раз стукнул топором, поправил шапку на голове и сказал одним махом и полностью:
— Ещё завязки хорошие привези, покрепче, не забудь.
Старуха уже не бормотала — говорила, и это не было ни проклятьем, ни молитвою, она обращалась к Агун:
— У Симона никогда не было дырявых носков и грязной рубашки не было, и Симон никогда не был голодный, и ты не была шлюхой и не разбазаривала добро моего сына, но я тобою недовольна, и недовольна потому, что…
И, следя за покачивающейся за забором головой Арус, Агун вдруг поняла, что Адам говорил о завязках для её языка, и, когда она поняла это, как ужаленная подскочила она на месте и сказала старухе:
— По радостному делу еду, не омрачай ясного дня. Серо, придержи собаку, Арус идёт.
— Я тебе не враг, — сказала старуха. — За головкой чесноку пришла, вспомнила, не знаю, кончился наш или ребята куда подевали. — И, войдя вслед за Агун в маран и любуясь его обилием и порядком в нём, старуха говорила, будто рассказывала: — Сын к невестке уходит, дочка — к зятю, все разбредаются, и ты остаёшься снова одна, и хорош он или плох, но достаётся тебе снова всё тот же твой муж, потому что твоё — это только твой муж, и в сорок лет ты его потеряешь или в восемьдесят — всё равно это самая большая потеря твоя. Дети теряют отца, невестка теряет свёкра, внуки — деда, а ты себя теряешь, потому что кому нужен один вол в упряжке… Потому что ты с ним одно ярмо тянула всю жизнь. А волы одного ярма привыкают друг к другу и друг друга понимают и жалеют. Когда я девушкой была, наш бык Циран заболел, мой отец запряг быка Хндзора с буйволом, потом мой отец горькие слёзы проливал, потому что время пахоты проходило, а эти никак не хотели тянуть, и то один останавливался, то другой, и мой отец говорил, что буйвол и бык не любят друг друга, что ненавидят. Святая книга говорит: если у тебя есть враг — договорись с ним, не то он тебя предаст судье, а судья — палачу. А я тебе не враг, я тебе мать, заместо матери.
— Ну хватит, ладно, бог меня без матери создал. Волы друг друга любят, собаки одного хозяина не грызутся, а Агун Симону житья не даёт, слышали всё это, хватит. Серо… В дорогу собираюсь, ты и сама знаешь, что глаз у тебя дурной… Серо, беги в село, скажи отцу, опаздываем, быстро!.. И твоя святая книга на меня не подействовала, знай.
Когда ребёнок был уже в овраге, Агун крикнула ему вдогонку:
— Чтоб через пять минут здесь был! — И, повернувшись к старухе спиной, сказала соседке оживлённо: — Арус, милая, посоветоваться с тобой хочу.
Старуха пошла к себе, подбирая по дороге разбросанные поленья, пересчитывая ульи и радуясь их количеству. Плачь не плачь, всё одно. Она хотела было свернуть к Адаму, но поняла, что ей Абел нужен. А этих проклятых слёз не было… И куда подевалась та светлая грусть и печальная радость, когда высохли обильные и лёгкие слёзы?
— Арус-джан, в Ереван еду. А старуху я так подковала, так подковала, что пять лет носить ей эти подковы, не сносить… А у тебя хочу совета спросить.
У Арус подолы всегда висят, её муж Фило крадёт шерсть из колхоза, а Арус её даже не моет — так в тюфяк пихает; расставив колени, Арус садится у печки, а её ковёр ткут в Овите чужие люди за деньги — и чтобы Агун у Арус совета просила? Оставив обед на плите, Арус полдня будет чесать языком у родника, обед подгорит, и кастрюля сгорит, и наволочки в доме сделаются чёрными от копоти, а Арус всё будет торчать у родника, собирать, разносить слухи о том о сём.
— Арус-джан, еду старшего своего женить, — рассказала Агун. — Невестка инженер, сто пятьдесят она получает, сто пятьдесят он, не считая гонораров. Гонорар, Арус-джан, это то, что дают за статьи, когда их печатают. Не бедно живут, но ведь и мы тоже не должны лицом в грязь ударить, вот везу всякую каурму-маурму, яблоки, яиц пятьсот штук, так, пустяки, наша повседневная обязанность. Ты для своих сыновей делала такое, ну и я тоже стараюсь. Здесь тюфяки килограммов по двенадцать, а то и все пятнадцать потянут. Твои, наверное, потяжелее были, да ведь и твой Фило потяжелее, не то что мой Симон. А если правду говорить, не обижайся, Арус-джан, — наклонила голову Агун. — У тебя ведь шерсть немытая была, а я свою хорошенько промыла. Вот этими руками. После два месяца инвалидом была, но одно могу точно сказать, что тут двенадцать кило чистой шерсти, ни одной соринки не найдёшь. Это, значит, тюфяки. А теперь, Арус-джан, посмотри одеяла. Простыни, когда Армен на целину ездил, а потом в Москву поехал — я ему деньги отправила, — простыни Армен из Москвы привёз. А покрывала, Арус-джан, по их вкусу, тоже из Москвы. Наш вкус и их вкус — не одно и то же, мы в деревне живём, мало видели, мало знаем. А шерсть для одеял я выменяла в Касахе, поменяла племенную на местную породу, она лучше, ещё Симон меня тогда избил. Да, из-за этих одеял. А это пододеяльники, Арус-джан, у них история длинная. В далёкие времена был у меня отец, звали его Ишхан, когда мурадовская Србуи принесла для моего ребёнка старые мужские рубашки, а мой ребёнок заболел через них, Ишхан из Манаца в тысяча девятьсот тридцать шестом году, феврале месяце, прислал двадцать метров белой, как зимняя луна, чистой бязи. Ах, умереть мне за моего Самвела… Через всю войну, через голод, через холод, в заплатах ходили, чего только не было — вот сохранила и сделала пододеяльники для моего ребёнка.
— Врёшь, Агун, неправду говоришь.
— Клянусь его солнцем.
— Да ну, что тут хорошего-то, что хвалишься, не пойму?
— Я такая.
— Потому и выглядишь в свои сорок лет на все семьдесят.
— Да, Арус-джан, — оживилась Агун. — Карпет из приданого, тот самый, что принесла с собой моя мать из дома моего деда. А в дом моего деда карпет этот пришёл из дома деда моей матери, из Арчеша. Две подушки, одна из гусиного пуха, другая из пера: гуси мои забрались в фасоль к Фило, а филоевская Арус напустила на них собаку, и собака передушила моих гусей по одному, если помнишь, конечно. Ничего, Арус-джан, и перьевая сойдёт. Это ковёр, он его не хочет брать, но ведь всё равно для него делала. А не хочет, потому что они там в городе заказывают ковёр на всю стену. Будут силы, выдюжу — дам им денег на такой ковёр, а не сумею — ты была бы здорова, Арус-джан, а этот ковёр — как хотят, пускай хоть под ноги бросают, на пол.
— Невестка твоя инженер, и сын получает охапками, куда же ты, спрашивается, столько добра для них набрала?
— Охапками получают, охапками и тратят, с товарищами за одну ночь четыреста рублей могут спустить. Целой коровы цена. А я, Арус-джан, набрала столько, потому что, во-первых, это немного, а во-вторых, я свой родительский долг выполняю.
— Ахчи… ахчи, для того ты своего несчастного мужа — сил в нём никаких уже не осталось, — для того ты его поедом ешь, чтобы потом добро его по ветру пускать?
— Эти, когда меня вышвырнули, хотели тебя за Симона просватать, жалко, что не получилось, сидели бы теперь, друг на дружку глядели, друг на дружку бы глядели и смеялись, то-то хорошо было бы.
— Да он мизинца моего Фило не стоит, твой Симон.
— Ещё бы! Твой Фило каждый год тонну шерсти в дом приносит. Умеет человек воровать, ничего не скажешь.
— Не хуже моего ведь живёшь, Агун.
— Это уже другой вопрос, Арус-джан. Об этом давай не будем говорить. Я ведь, знаешь, пока не выскажу человеку в лицо всё, что о нём думаю, болею. Твой муж твой дом добром заваливает, мой — нет, но живу я не хуже твоего, а немножко даже лучше, и это так, поскольку хозяйка в этом доме Агун. Должно же быть какое-то равенство.
— Что бы там ни было, Агун, а мужа твоего можно пожалеть, день-деньской спину гнёт…
— И на это могу тебе ответить, Арус-джан: чтобы не было так, как ты говоришь, смекалка у него должна быть, а раз нету этого — гни спину.
— Жизнь — нетрудная штука, Агун. Но ты всё затрудняешь. И себя мучаешь, и других. Во время войны на одной картошке сидели, помнишь, а сколько смеялись. А случай с Коротышкой Арто помнишь, сама ведь виновата была…
— Жизнь для тех лёгкая, что к себе загребают. Коротышка Арто по поводу пенсии обратился к Арменаку, Арменак сказал — посмотрим.
— А что, раз у нас в городе такой человек есть, к нему мы и должны идти, к кому же ещё.
— Весь в отца пошёл, штаны поднять забудет, цмакутцам своим побежит помогать.
— Да ведь близкие ему люди, почему не помочь.
— Мой муж наполовину мне принадлежал, наполовину другим, а вообще-то — колхозу. Сын, верно, в него пошёл. Если в нём хоть капля моей крови есть, он тот хлев никогда не должен забывать. Ведро твоё наполнилось, обед на плите небось горит уже, иди, Арус-джан, не буду отрывать тебя от дела.
— Ничего не осталось, всё показала?
— Из своей нищеты столько выделила, мало?
— Хорошее приданое. В старину ещё корову давали, да на что им теперь корова?
— Вместо коровы, Арус-джан, я тут одну вещь придумала, не знаю, что скажешь. Вместо коровы — пятьсот рублей им даю. Но не в руки им, не для того, чтобы в ресторанах и кино растратили, сама пойду, куплю платяной шкаф, поставлю в их доме.
— Да-а? — промурлыкала Арус. — А дом есть?
— Журналистам быстро дают. Для работы отдельная комната, чтобы спать — отдельная, их работа ведь умственная…
— Да-а, — промурлыкала опять Арус.
— Он не хочет, чтобы я ему платяной шкаф покупала, но ведь он, как и отец, непонимающий. Ему надо, чтобы одежда его в шкафу висела, и для посуды чтобы отдельный шкаф имелся, и пианино чтобы было, но он не понимает, что всё это надо купить, чтобы было. В ресторан пойти — это он понимает. И эта девушка тоже. Над ними хорошенький надзор нужен, кто-нибудь вроде меня. На пианино, Арус-джан, боюсь, что меня не хватит, да и не разбираюсь я в этих пианинах, но мебель для столовой куплю. Из Москвы, говорят, привозят. И стоит это, Арус-джан, пять тысяч рублей новыми. И подороже есть, но подороже я не осилю.
— Хорошо, — кивнула Арус. — Очень хорошо, — согласилась Арус. — Замечательно прямо. Да только не умещается у меня всё это в голове, — удивилась Арус. — Ахчи, ты с ума сошла, — растерялась Арус. — Ахчи, ты сумасшедшая, — поднеся руку ко рту, подумала вслух Арус. — Ты глупая, ахчи. Будь проклята твоя невестка, будь проклят твой сын, ты что же это весь дом ему под ноги бросаешь, — пошла к дверям Арус. — Ладно бы, всё молча делала, а меня-то зачем вызвала? — повернулась в дверях Арус. — Твоя невестка — горожанка, росла себе, как сыр в масле каталась, небось в достатке, а ты ценою крови несколько копеек собрала, теперь чужой девчонке отдаёшь. Правду говорят: богатому — всё, а нищему — хвост собачий… Себя не жалеешь, этого несчастного человека пожалей, бессовестная…
«А теперь, Арус-джан, иди и всему селу расскажи, скажи — симоновская жена Агун с одним карпетом к мужу пришла, а для сына вон пианино покупает».
— И холодильник, — сказала Агун.
— Что?
— Холодильник. Триста рублей новыми, кушанья туда кладёшь, и не портятся, какую хочешь еду храни. Летом им мацун буду посылать, масло, кур, что съедят, съедят, остальное в холодильник упрячут. Мой отец Ишхан после своей смерти сто тысяч на моё имя оставил в банке, а мой брат Валод тихонечко их присвоил. Хочу сказать, родитель такой должен быть, как мой отец Ишхан. Всё!
— Имущество твоё, и воля твоя. Если меня спросить — мне твоего мужа жалко. От мужа отрываешь — чужой девчонке отдаёшь.
Невестка такая должна быть, чтобы в доме сына что-нибудь да значил голос Агун. Чтоб говорили ей там — бабушка, чтоб говорили — мама. Чтобы невестка называла её мамой, а она бы отзывалась: «Да, доченька». Для невестки надо будет тяжёлое золотое кольцо купить.
— Арус, — пробормотала Агун. — Арус, я счастливая или несчастная?
— Будет болтать лишнее.
— Это нуль, Арус. Что касается имущества, вот тебе пример: волк за одну ночь тридцать пять мушеговских овец задрал, тридцать пять овец было у человека, теперь сидит с пустым загоном, и деньги — сегодня они есть, завтра их нет, мой сын Армен садится вечером с друзьями в ресторане поезда Тбилиси — Ереван, наутро оставляет часы, да и не он один, и уходит довольный. Я счастливая или нет?
— Твой сын Арменак, он твой сын. А вот в горле у тебя опухоль, и ты бы лучше об этом подумала. А твоя будущая невестка, которая и до этого хорошо жила, а теперь должна стать женой Арменака, она не только женою станет, она всего Арменака себе заберёт и тебе ничего не оставит. Тебе твой Симон останется. Это моё мнение, я лично так думаю. Я своим сыновьям дала здоровье, пару белья и каждому по постели. А у меня мой Фило есть, сегодня вдвоём двух кур съели. А что постель сыновьям дала, и то жалею. Жизнь, она во-он какая широкая, куда ни глянь — все хорошо живут. Лишь бы охота к смеху сохранялась. А счастливая ты или нет, тебе лучше про это знать, а про себя скажу — я довольна, что я Арус, а не Агун.
— Я несчастливая, Арус, моей мачехой была дарпасовская злыдня, мой отец был Ишхан, двадцать метров бязи прислал, да однажды горсть конфет ребёнку и тысячи посулил несуществующие, моей свекровью была абеловская Арус, а мой муж — Симон.
— Ну ладно, по радостному случаю едешь, нечего раскисать. Ты что же меня вызвала — чтобы слёзы при мне лить? А если меня послушать, ахчи, половины этих денег хватит, чтобы болезнь твою вылечить.
— Как повелось мне с самого начала быть несчастной, так пусть и идёт всё. Здоровье для радости нужно, а мне с самого начала в этом было отказано.
Арус прикусила язык, чтобы не сказать, но как тут не сказать, хоть и больная и нервная Агун женщина, но как не сказать, что её тётка Манишак ещё хуже свекровь была, чем бабка Арус, да в придачу, прости нас, господи, шлюха была: обдирала и Амбо, и Антоенца Степана одновременно, а недавно в доме у них нашли серебряный пояс Метаксэ, значит, и Авага тоже — троих сразу. А на невестку её действовало это? — нет.
— Радость от самого человека идёт, Агун-джан, если счастлив человек — не другими, собою счастлив, и в несчастье тоже нечего других винить.
— Мой ребёнок в хлеву родился.
— А я своих где рожала?
— Я из города сюда приехала, ты из Овита. Отцовские палаты — и мужнин хлев.
— Ну ладно, тебе счастливого пути, мой обед давно уже подгорел.
— Спасибо тебе, Арус-джан.
— Ты из города приехала, я из Овита — в Овите не люди живут. Так, что ли, получается?
— О чём говоришь? Люди в Ессентуки едут, в Одессу, за границу едут люди, а ты — Овит.
— Как будто бы в Ессентуках и за границей нет голоштанных дураков.
— Ахчи, шла бы себе, поздно уже.
— Люди, один раз откушав хлеба у твоей тётки Манишак, всю жизнь потом этот хлеб помнили. Солёный был очень. Твой язык, Агун, — твой враг.
— Что верно, то верно, а хлеб мой несолёный.
— Расставят в доме новую мебель и холодильник, а ковёр твой на полу будет валяться, и ребёнок будет писать на него, а ты придёшь — посмотрят на тебя, скажут: «Ты кто?»
— Верно, пропади пропадом мой язык, погибель моя.
— Ну да нечего расстраиваться, увидим ещё.
— Нет, ты права, Арус-джан, младший и сейчас уже говорит: «Хорошо делали, что на тебя «арнаут» кричали».
Невестка с сыном поссорятся, невестка, приглаживая волосы, выйдет из другой комнаты: «Мама, ноги моей больше не будет в этом доме, скажи этому бесстыднику…» И она, стоя возле книжного шкафа, крикнет сыну в ту комнату: «Эй ты, симоновское отродье, сейчас вышвырну тебя из дому, валодовский ошметок!..»
Во времена Ованеса Туманяна грамотных было мало, немногие тогда писали, прославиться было нетрудно. Ованес Туманян, Ованес Туманян. Ованес Туманян был один из десяти грамотных, и теперь ему памятник стоит, и дом-музей есть… Ованес Туманян, вот пришёл бы ты в этот мир журналистом, пожил бы среди этого народа, увидели бы мы, какой ты Ованес Туманян. Теперь все читают, все пишут, а Вазгену, видишь, арменаковские статьи не нравятся, говорит: «Я лучше могу написать». Мог бы ты, Ованес Туманян, выделиться из тысячи так, чтобы и памятник тебе поставили, и люльку твою сохранили — «в этой колыбели маленького Ованеса качали»? Чует моё материнское сердце, Арменаку тоже поставят памятник. Его писательский талант из Ванкера идёт, через меня, я ванкеровская уроженка, мой отец Ишхан складно так говорил, а цмакутовская сторона — косноязычные все, брат Симона Адам пока скажет, что ему шапка нужна, три дня пройдёт. Три дня пройдёт, а он так и не может трёх слов вместе составить. Между прочим, Арташес Арзуманян тоже из Ванкера. «Мой язык — мой враг». Да благодаря языку-то моему и выделился мой сын. Что у меня было? Один язык, один жалкий муж и один карпет. Поди, поди, Арус-джан, всему Цмакуту расскажи, а через Цмакут — Овиту, городу Манацу и селу Ванкер, что дочь Ишхана Агун своему сыну Арменаку дарит на свадьбу тридцать тысяч рублей новыми и своё материнское благословение.
Памятник надо будет поставить в Ванкере. Но ещё один памятник стоит поставить на месте старого хлева: «Здесь Агун через великие трудности растила человека, равного Ованесу Туманяну и Арташесу Арзуманяну». «А мадам Софи ещё долгое время оставалась моложавой, зажигательной и привлекательной и многих ещё на своём веку сменила мужчин и так и не состарилась, так и не умерла — потому что у тех, кто умер, могила есть, а у неё нету. Наверное, она растворилась, просочилась всюду, и мир в некотором роде прософился». Ах, умереть мне за твой язык — «и мир в некотором роде прософился». «В некотором роде». «Растворилась». «Просочилась»…
— Серо!..
Интересно, Ованес Туманян больше или Арташес Арзуманян? Арташес Арзуманян специально летал в Америку, чтобы войны не случилось. Говорят, война на носу была — Арташес её не допустил. В те дни по радио и в газетах только и слышалось: «Арзуманян, Арзуманян», и она Арменаку сказала тогда: «Почему не хочешь стать секретарём райкома?» Пьяный был сын, пробурчал что-то вроде: «Не променяю, ни за что не променяю». В Армении тысячи писателей и журналистов, кому в голову взбредёт — пишет. Вон и мурадовский Гикор стихи сочиняет. Адам тоже вздумал жизнь свою на войне описать; Манэ и соседки хлопотали над ковром, варёная картошка остывала на столе, а Адам обмакнул перо и снова задумался. Она засмеялась: думал. Потом он вырвал страничку из тетради, снова обмакнул перо и снова задумался. Арменак засмеялся: «Дядюшка книгу пишет, большие деньги получит». Адам обиделся, оставил на столе холодную картошку, чернила и бумагу и пошёл обтёсывать передок для телеги. И после этого он и его сын Вазген, а с ними и Манэ в один голос кричат, что Арменак не так уж и хорошо пишет. Арменак должен был, как Арташес Арзуманян, в чёрном костюме приезжать изредка в деревню, и чтобы деревенские смотрели на него немного издали, немного робея, а Арменак чтобы подходил к некоторым из них и здоровался за руку. Жалко ведь ребёнка — комната полна дыму, а он всё пишет, пишет, пишет, утром встаёт кислый, недовольный, читает то, что ночью написал, и на мелкие клочки рвёт. А ты тут хвастай, хвались перед Арус, что его одна ночь тысячу стоит. Ничего, сын мой, мучения, они для человека, а в твоей крови заложена привычка к трудностям, ты выдержишь. Вначале мучаются, чтобы потом не мучиться, уж на что Арзуманян могуч — и то ведь не смог приехать на похороны жены из Америки. Не мучаются только воры. И скоты. Они не мучаются. Одни воровством живут, другие — благодаря своим способностям, данным богом и матерью. Самое лучшее — это чтобы и хорошо жилось, и имя чистое было. Конечно, и деньгами можно имя себе сделать, даже чистое имя можно деньгами сделать, но ведь всё равно люди потом скажут — смотрите, вон тот человек денежками имя себе расчистил. Отец твой всю жизнь дерево грыз, ты за бумагу взялся, а мой брат Валод до сорока лет дожил — ни головной боли не знал, ни ещё какой-нибудь. Чистое имя, конечно, хорошее дело, но ведь в мире сколько угодно лёгкой, нетрудной работы… Должен был ты, сын, идти в руководящие работники. Жизнь эта один раз нам даётся, и надо быть в центре её. И вообще, по правде говоря, после меня хоть потоп. Ванкеровский князь Никол кровь из людей пил и пьянел, а мой дед Баго пьянел от голода. Князя Никола все проклинали, а моего священника-деда благословляли. И тот стал прахом, и этот. Один сытым в могилу ушёл, другой — голодным. Все эти памятники, все эти «останется в памяти людской» — пустое всё это. Жизнь нам один раз даётся, а там заколотят ящик — и кончено. И ты с собой унесёшь только то, что видел, то, что любил, что ел и чем владел. А уж что после смерти твоей скажут о тебе люди — какое всё это имеет значение? Мой отец Ишхан воровал, а его брат Вагаршак был неспособен к этому и потому говорил: «Стыдно так жить, Ишхан, нехорошо».
«Дело себе найди, работу подыщи, работу стоящую… — с гримасой приказала из Цмакута в Ереван мать сыну. — Бумагу марать всякий может, вон и мурадовский Гикор уже стихи пишет, ты себе работу приищи…»
«Напечатают статью — тебе кольцо куплю». А если не напечатают? Это то же семя, бросаем в землю, — может, урожай получим, а может, град его побьёт или солнце пересушит, ну а может и так случиться, что под дождём истлеет. Пока рыба ещё в воде — ею не торгуют. Цыплята весной коршуну достаются, осенью — нам. Разуваются у самой воды. Сегодняшнюю копейку на завтрашнюю тысячу не меняй. «Напечатают — кольцо куплю».
«Работу себе найди, безмозглый, работу, говорю…» — помешивая на огне похлёбку для собаки, брезгливо, с отвращением сказала она. «Слушай, мать, дай три рубля, завтра гонорар получу — пятёркой верну». «Ещё три рубля дай, мать, шесть рублей тебе буду должен, гонорар что-то задерживают». «За хлебом иду, мать, подкинь тридцать копеек…»
Когда тебя в Зоовет отправляли, почему упёрся, не пошёл туда? Неужто и этого через побои добиваться надо было? «Пье-су пи-шу». Пиши, пиши, напишешь, поставят, все балбесы в селе рты разинут, народ смеяться станет, а уж Симон-то обрадуется… «За хле-бом и-ду…»
Головная боль началась. Сжав обеими руками виски, она посмотрела кругом, куда бы ей приткнуться. Ещё издали, ещё только подбираясь, подкрадываясь, боль начала безжалостно бороздить мягкий беспомощный мозг, черепная коробка вот-вот должна была расколоться, и верхняя часть её бесшумно должна была сняться с места, и разгорячённый мозг, как молочная пена, должен был хлынуть, рвануться вверх, увеличиваясь в объёме… Сжав голову руками, она толкнула плечом дверь на кухню, и какой-то треск, как близко разорвавшаяся молния, пронзил её всю. «Теннисный стол для школы делаю». В теннис будете играть, только этого нам недоставало. Ох, мамочка, голова моя, мамочка. В темноте она разглядела шершавую поверхность полосатого карпета, накинутого на тахту, и увидела подушку — мутаку, и снова почувствовала твёрдость мутаки и твёрдость треугольного навощённого клочка бумаги в мутаке. «Чтоб тебе подавиться своими писульками, бабка Арус! — Постели были сложены в большой комнате. — Ох, найти бы что-нибудь сильное, что бы сжало голову, как обруч, и держало так. — Она вышла на балкон, и солнце, на секунду вспыхнув, ослепило её и погасло. Сжав голову руками, она стояла не двигаясь, и ей казалось, что просеивает горячую золу. — Ох, мамочка, голова моя… Пройдёт, сейчас пройдёт. Вот дверь, надо только толкнуть её коленом, а дальше — постель и подушка. — Приданое, сваленное в кучу, заслоняло вход. — Как же пройти в комнату? — Сейчас она споткнётся и ударится обо что-нибудь головой. Она стояла, покачиваясь, возле двери и страшилась услышать её скрип. Сейчас поблизости треснет собачий лай. Сейчас петух застрекочет. — Ох, мамочка, некому мне помочь!..»
Ей надо было заткнуть уши, но она забыла сделать это. Вся окунутая в лучи солнца, она стояла возле голубых перил, и покачивалась, и всё хотела дойти до постели в большой комнате, и всё забывала, что для этого надо сделать шаг-другой. Руки её поднялись, как в танце, и, покачиваясь им в такт, она забормотала:
— И на что мне всё это нужно, на что, на что… Да ведь зачем мне всё это, для чего, зачем… Серо! Пусть лучше убьют меня, на что мне такая жизнь, — уронив голову на грудь, как пьяная, шёпотом пожаловалась они.
В доме она упала на стопку сложенных одеял и сказала себе: «Нет, так не годится, так некультурно, — и пошла с подушкой к тахте, и спрятала голову в мягкую мглу подушки, и сказала всем, всем: — Живите как хотите, делайте что хотите, только будьте здоровыми… Ты, боль, да что же тебе надо от меня…»
И, прислушиваясь к боли, она поняла, что боль теперь даже нравится ей.
— Чтоб тебя, — пробормотала она, как человек, прошедший испытание, и вдруг словно споткнулась разом, словно окунулась в тёплую воду.
Будто бы она была хозяйкой четырёх коров и будто бы в горах была. Кругом зелено было, и солнце над головой сияло. И будто бы все четыре коровы были готовы к дою, а четыре телёнка стояли, привязанные к одному колышку.
— Сон мне видится, — пробормотала она и увидела продолжение: она рассказывала сыну, что одно время она очень много летала, теперь почему-то перестала.
Кругом было зелено и солнечно, и сын сказал ей: «Если захочешь, и сейчас полетишь». И вдруг сам взмыл в воздух и полетел. «Иди, иди, нетрудно это, лети ко мне», — просветлённо и радостно позвал сын. «Ах, не осталось уже, не осталось сил для этого, да и коров доить надо», — грустно и притворно ответила она, но вдруг — что это? — полетела. И они летали так вдвоём, над летним выгоном, над селом, над покосами. «Взрослая женщина, а ребяческие сны видишь, — укоризненно пробормотала она самой себе, и вспомнила, что Симон опаздывает, и подумала, что если она куда-нибудь когда опаздывала, то всегда по вине Симона. — Часы не для этих людей существуют, — раздражённо подумала она и тут же сказала себе, что не надо злиться. — Спи, засни, если хоть полчаса сейчас поспишь, на месяц тебя хватит».
…Симон был в городе, поехал продавать сыр, их корова вот-вот должна была отелиться, во всём сведущий и опытный крестьянин Адам оглядел корову и сказал: «Двадцать дней ещё есть». А она не поверила Адаму и всё же легла спать. В полночь, когда самый сон, голос Ишхана позвал её: «Агуник, Агуник, Агуник». Она вскочила и побежала в хлев, в хлеву перед коровой на корточках сидел Арменак и пыхтел от волнения — телёнок шёл неправильно. Они два-три раза заталкивали его обратно, пока он пошёл правильно. «А ты почему тут очутился, Арменак?» — спросила она. «Во сне деда Ишхана увидел, он кричал на меня. «Корова ваша телится! — кричал. — Тебе четырнадцать лет, ты спишь себе, а корова там сейчас сдохнет». Армен не поверил, что мать тоже разбудил голос Ишхана. А эти, и Симон вместе с ними, долго ещё над нею потешались: «Ишхан сказал, телёнок со звёздочкой на лбу хочет родиться, поднимайся, Агуник, Симон в городе сыр продаёт, телёнка тебе принимать».
Положив подушку на место и поправляя перед зеркалом волосы, она захотела вспомнить, чем была занята до головной боли. И, выйдя на крыльцо, она вздохнула примирённо, вроде бы побеждённая.
— Бедный мой отец, он только на Симона не нашёл управу… Стол ему для тенниса заказали, особый, правительственный заказ.
Симон сто лет проживёт. Симон проживёт сто лет, а нам и наших пятидесяти достаточно. Ворон живёт пятьсот лет. Коршун… коршун или ястреб?.. Ворон пятьсот лет живёт, ястреб — сорок. «Ха, пятьсот лет падалью питаться, очень надо!» — сказал ястреб.
Собака во дворе исходила злостью и лаяла на кого-то, кто был внизу. Скотины поблизости не было, людей тоже, Адам зашёл в дом — на кого же это она лаяла? Да, собачья похлёбка на огне ведь, забыла совсем. Нельзя так, нельзя, когда-нибудь эта боль ударит — убьёт её, надо лечиться.
— И чего тебе, пёс, надо, ты-то что с ума сходишь?
Внизу был Адамов дом, овраг, каменная гряда, дуб, дальше — лес. На опушке леса виднелась чёрная корова. Развяжи пса — в минуту окажется возле коровы. Агун налила собаке похлёбку, но та, обрывая цепь, рвалась к лесу. Собаки этого дома всему живому враги. Та, что до этой была, умерла от разрыва сердца, не собака была — мотор, так и клокотала, так и кипела сама в себе. А ещё прежде был Чамбар — этот в одиночку бросился на волчью стаю, искусал-потрепал волков, а потом они его самого в клочки разодрали. Собаки этих людей от силы три-четыре года держатся. Они с Симоном уже штук семь поменяли за это время (хотя у Адама, к примеру, всего лишь вторая собака, а у свекрови как был Басар, так и остаётся, добрый, спокойный, ленивый, не пёс — осёл).
Собака навострила уши и подождала — за каменной грядой показался Симон. Медленными — так что сердце у тебя готово было выпрыгнуть из груди, — медленными неуверенными шагами продвигался он по тропинке. А куда спешить, спрашивается, вот он, дом, сейчас доберёмся до него, торопиться нам ни к чему. Инвалид войны Воскан, поспорив с кем-то на две бутылки, с двухпудовой глыбой каменной соли от Манаца аж до самого Ванкера допёр, вы на этого поглядите, как он вышагивает.
И, приставив руку ко лбу козырьком, Агун сказала ему заботливо, как бы сказала его мать:
— Тише, тише иди, ноги устанут, куда торопиться-то.
С большой головой на плечах — из-за гряды показался Серо, потом вдруг остановился и сел на землю. Перед дождём и после выпивки Арменак морщится от боли в ногах, а всё из-за этого прекрасного отца, который три-четыре года держал ребёнка в резиновых постолах. Она говорила ему: «Эта резина угробит ребёнка, Симон», а Симон ей: «Что, износилась уже?»
— Вроде бы ты что говорила? — спросил Симон.
— Отдохни ещё немножко, потом скажу, — спокойно начала Агун, но не выдержала, закричала: — Слишком рано явился, ты ещё дома полежи немного, ещё под солнышком посиди, а там поглядим, что делать!
Симон не двигался с места.
— В Ереван еду, — объяснила Агун. — Опаздываю. Лошадь мне нужна. Лошадь привязана в овраге. Надо привести её.
Симон понял, повернулся и спотыкающимися шагами пошёл по тропинке обратно. Ну что тут скажешь! Нет чтоб сразу самому пойти за лошадью — надо, чтобы кто-то сказал ему об этом, надоумил.
— Не сиди на холодной земле, встань сейчас же! Кому говорят!
Ребёнок лениво покачнулся и было встал, но, когда Агун, поставив разогреваться обед, проходила из кухни в большую комнату, он всё ещё сидел на земле.
— Не сиди на холодной земле, сказано!
— Не холодная.
— Холодная, я знаю.
— Ты генерал, ты всё знаешь..
— Что, нога разболелась, Серо-джан?
— Не твоё дело.
— Ну раз не моё, подыхай, сиди.
Не иначе и у этого ревматизм, нет-нет да и захнычет вдруг. Да что же это за несчастье, что за божья немилость над этим домом. Что мне с того, что в газете наше имя напечатают? Наше имя и всякие хорошие слова про нас. На что мне всё это, если во мне уже нет сил радоваться?
— Встань сейчас же с земли! Сию секунду! Вот так.
Пока не пришли мои «помощнички», соображу-ка, что к чему. Значит, так. Я еду в Ереван. Вот она я, а вот моя поклажа. Так, это приданое: две подушки, два одеяла, два матраца, деньги на простыни надо положить отдельно, это карпет и ковёр, да, карпет и ковёр, считай, значит, два куска (на станции полно народу, глаз да глаз нужен), это яблоки, это яйца — уже четыре куска, сыр, масло — шесть, ага… Каурма — семь, мёд — восемь, ну и всякая мелочь в руках — девять. Значит, так — я еду в Ереван, и на руках у меня девять кусков. Сыр и масло устроим вместе в хурджине, — значит, минус один кусок, сверху устроим всякий мацун, ну, что в руках должно было быть, — минус ещё один кусок, — получится семь кусков, а мёд приткнём к маслу, очень хорошо, шесть кусков останется, яблоки трогать не будем и яйца тоже. Шесть кусков. Всё! Если мне не помешают — я еду в Ереван с шестью кусками. В поездах воровства меньше стало, завтра буду в Ереване.
— Чего-нибудь не хватает? Когда Коротышка Арташ перебирался в Кировакан — пять грузовиков у дверей загромыхали. Адам тогда сказал: «В нашем колхозе столько богатства было, а я и не знал». Варенье, соленье и картошку отправлю ближе к зиме. Авелук! Не забыть бы авелук. Говорят, Арзуманян его очень уважает. Всё? Ничего не забыто, ничего лишнего не взято? Нет, вроде бы ничего не забыто, а что лишнее — так это самое последнее яичко, потому что взято оно в совершенно немыслимом месте. Ну всё, значит. Нет, что-то ещё должна была прихватить, что-то важное, что же это было-то?
— Серо-джан?.. Что-то я ещё хотела с собой взять, забыла что.
— Что?
— Да не помню, голова дырявая стала.
— Возьми с собой — скажу что.
Она засучила рукава, поглядела на сына искоса и зашлась в смехе.
— И не берёшь, и смеёшься ещё?
— Что бы я делала без вас, ах ты господи!
Обнадёженный ребёнок захотел укрепить позиции:
— Мешать не буду, тихонечко буду идти рядом.
Ну да?
— И, может быть, на что-нибудь пригожусь.
— На что же это, например?
— Например, я за вещами погляжу, а ты пойдёшь на станцию, воды напьёшься.
— И то правда.
— И с тобой же вернусь. В Ереване не останусь.
— Говорите так, а сами потом слово не держите, знаем мы вас.
— В прошлый раз вернулся ведь?
— А кто плакал, я?
— А что же, только приехали, а ты уже — собирайся.
— А наши дела в доме, их кто должен был делать?
— А вернулись — свиньи на месте, куры на месте, и собака не голодная.
— А помнишь, как вы с отцом одни остались, собаку маслом перекормили?
— А я при чём. Назик тогда забыла, дважды посолила обед.
— Профессор Серо, а профессор Серо, что значит «просочиться»?
— Если скажу, возьмёшь с собой в Ереван?
— Если скажешь — возьму.
— А про что это сказано — «просочиться»?
— Э-э-э, мало читаешь, ничего не знаешь. Твой брат в твоём возрасте говорил «Август Бебель». И в твоём же возрасте не побоялся — поспорил с твоим дядей Акопом, вернувшимся из армии, что Максим Горький умер в 1936 году. И выиграл спор — прав оказался. Я гасила лампу, а он зажигал, я гасила, он снова зажигал, книжки читал.
— Да ну, «просочиться», что тут такого?
— Так что же это значит — «просочиться»?
— Сочиться, просочиться — от слова «сок», сок сочится. Просочиться, значит — внутрь всочиться. Видишь.
— Профессор, ну профессор.
— А что, неверно разве? Ну говори, неверно?
— А как же тогда мадам Софи растаяла, растворилась, просочилась всюду и мир от этого немножко «прософился»?
— Мадам Софи кто?
— Мадам Софи — женщина.
— Не знаю, наверное, там неправильно написано.
— Как это неправильно написано, профессор Серо? Как это наверное?
— А так. Бывают же задачки по арифметике неверные, в условии ошибка.
— Это брат твой написал.
— А как же ты прочитала? Ты разве буквы знаешь?
— Буквы! Всё, что написал твой брат, рассказала ему я! Твой брат говорит: всё, что я ему рассказывала, а он записал, — хвалят в один голос, а когда он от себя прибавляет — не так хвалят. Букв не знаю, нет. Сентябрь, октябрь, ноябрь отсидела в школе, а в декабре мачеха забрала меня домой. «Неспособная», — сказала про меня. Сама она очень способная, до сих пор вместо Ишхана говорит «Ихшьян», «Ихшьян-джан»…
Ребёнок попробовал повторить имя это в уме, попробовал вполголоса.
— А что, и вправду трудное имя! — как-то воинственно не согласился он с матерью.
— Потому что, Серо-джан, ты тоже из рода Адама. «Шы-и-и… шы-и-и…шы…» — «Шапка?» — «Да».
— Ну ладно, давай стихотворение прочтём наизусть, посмотрим, кто первый запнётся.
— Охоты нет.
— Потому что не знаешь.
— Это я не знаю?! Да я сама поэт! У меня на целое село и слов и умения хватит, я ведь из Ванкера родом, не забывай.
— Ну тогда давай наперегонки стихотворение скажем, кто скорее.
— Чужие стихи читать? Я что, попугай, что ли, чужие слова повторять? Я не попугай, товарищ Серо.
— Вуэй, — совсем по-ихнему, по-адамовскому, протянул ребёнок. — Это что же, мы, значит, попугаи, что целый день учим всё наизусть?
— Попугаи и ещё кое-что в придачу. Понятно?
— А тогда… А что ж ты бьёшь меня, когда я не учу урок?
— А это потому, что я хочу, чтоб ты человеком стал, перо в руки взял, перо, не вилы.
— А если вилы возьму, что ж, не человек уже буду?
— Будешь, будешь, успокойся. И ведь возьмёшь ты эти самые вилы в руки, чует моё сердце. Но только придётся приставить к тебе ещё кого-нибудь, чтоб была тебе ежеминутная указка: эту траву сюда переложи, а этот вот стог прикрой как следует, чтобы вода не затекла, волам сена подбрось, к коровам смотри не опоздай, а теперь иди выкидывать навоз из хлева, — и она, ухватив подбородок рукой, подождала, что скажет ребёнок, её ненаглядный профессор Серо.
Ребёнок подумал, представил всё, что мать ему предрекла, и это ему не понравилось:
— Не стану я навоз выгребать.
— Станешь.
— Нет!
— Ты умный мальчик, ты выгребешь навоз, получишь трудодень, похвалят тебя — кило картошки дадут, принесёшь отцу, отец твой обрадуется… Съедите картошку и запляшете от радости. А?
Плечи узенькие, громадная голова на тоненькой шее — ребёнок подскочил к ней, с минуту он дрожал безмолвно и вдруг закричал, совсем как пролаял:
— Не стану! Сказано тебе, не стану навоз выгребать! Сказано, в Ереван хочу!
Беззвучно смеясь, она притянула к себе сына и, то ли поглаживая его большую голову, то ли взвешивая её у себя на коленях, сказала:
— Навоз не будешь выгребать, а что же будешь делать?
Ребёнок неуклюже вывернулся из её объятий, стал перед нею и сказал с сухими и блестящими глазами:
— Мне твоя фальшивая любовь не нужна, я в Ереван хочу.
— Идите, вот она, дорога, кто вас держит. Идите, а меня оставьте здесь одну.
— И ты тоже иди, тебя тоже никто не держит.
— В городе Ереване ни одного неграмотного не осталось — меня дожидаются.
— Почему одна остаёшься? Вон всё рядом, всё здесь.
— Молодец! Всегда так отвечай на добро!
— Не понимаю, что ты говоришь.
— То, что невыгодно вам, того вы не понимаете.
— Да ну, не понимаю же, о чём ты?
— Ну ладно, навоз выгребать ты отказался — это мы поняли, поехал в Ереван — прекрасно. Ну а там, там что будешь делать? Дай разумный ответ, пусть мать твоя порадуется. Твоя мать, она ведь пустым словам очень даже радуется.
— Пойду в тамошнюю школу.
— А где жить будешь?
— У Армена.
— А невестка возьмёт и вышвырнет тебя вон.
— Вуэй!
— А что! Час тому назад умирала, может случиться — вот так лягу когда-нибудь и не встану. Что будешь делать? А невестка выбросила тебя из дому! Что ты делаешь?
— Вырасту — скажу.
— Моя мать не стала дожидаться, пока я вырасту, трёхмесячная я была — угасла. А моя дарпасовская мачеха сделала меня водоносом, слугою сделала, а с прялкой вот обращаться не научила, как же, я ведь была неспособная.
Ребёнок плакал. И в её горле тоже что-то щекотало и набухало. Но, улыбнувшись через силу, она сказала ребёнку:
— Твой дядя Адам женихом почти был — не мог одно стихотворение наизусть сказать, плакал на экзамене, говорить ему, видите, было трудно. Теперь твой черёд настал? Что ж, из их породы как-никак.
И ребёнок сказал раздумчиво, в сомнении и с последней надеждой:
— А папа?
— Твой папа проживёт с тобою сто семьдесят лет. Твой папа говорил — отправим Армена в колхоз, пастухам хороший трудодень дают. Армен в городе, значит, он тебя отправит пастушить. Каждый человек становится тем, кем хочет стать. Дорог много, а воля одна. Каждый человек идёт по избранному им самим пути. Так кем же ты станешь?
— Сейчас не знаю. Сейчас, в эту минуту, не знаю.
— В твои годы Армен пьесу писал! — вдруг закричала она. — Говорил, драматургом стану! Стал? Стал!
— Скажи что-нибудь наизусть, можешь?
— Вот как?! Наизусть, значит, хочешь?
— Одно ты, одно я, одно ты, одно я. Наперегонки.
— Очень хорошо. Напомнишь, чтобы я авелук взяла с собой. Ну слушаю тебя, товарищ Серо.
— Не говори мне товарищ Серо.
— Не буду.
— Ованес Туманян. «Конец зла». Если собьюсь, не мешай, я сам вспомню.
— «Конец зла» Ованес Туманян написал или Газарос Агаян?
— Не мешай. Ованес Туманян. Ованес Туманян. «Конец зла»…
— «Под ней — пёстрый луг, на ней — старый бук»… Хорошо!..
— Сказано тебе — не мешай.
Ой, а как же лиса, там же ещё про лису было… Это ты мне всё помешала!
Она опять беззвучно смеялась, и ребёнок сказал ей враждебно:
— Что, скажешь, ты лучше моего читаешь?
— Я вообще не читаю. Моё дело варить похлёбку для пса — я и варю.
— А что же смеёшься?
— Что смеюсь? Ну да, смеюсь.
Был последний выпускной год, их дочь убежала из Овита с учителем истории, кироваканским парнем. И хотя на них слегка рассердились, но всё сложилось ещё лучше, чем если бы сватали, менялись кольцами, — обручённые, дескать. Всё сложилось как нельзя лучше. У парня в Кировакане дом был, и сам парень из ловких оказался, устроил жену вожатой в школе, да ещё в пединститут на заочное отделение определил. Одно нехорошо было: родни не признавали. Ну да какая дочка родителям остаётся, были бы они сами довольны — нам меньше заботы. Тогда как спасения ждали Арменака — от него пришло письмо из Сибири. Дома стояла ужасающая тишина, всё словно вымерло. А газеты одна за другой приносили имя Армена и его очерки, осенью газеты похвалили Армена — Армен был больше не их. Армена видели в ресторане поезда Ереван — Тбилиси, а здесь, в доме, царило молчание. И запасы солений были ни к чему, и обед варить было незачем, все яблоки съели внуки Адама, а мёд застыл, засахарился, его растопили, он снова застыл, и так несколько раз, пока Симон с маслом вместе не повёз его в Кировакан то ли на продажу, то ли кумовьям в дар. «Рожать буду, Симон», — сказала она. В магазине — она сахар и масло покупала — вардановский Арто оглядел её с ног до головы: «Кто-то здесь арбузную косточку проглотил», — и посмотрел на ситцы, на игрушки, потом на Агун и снова на ситцы. И все, кто был в магазине, засмеялись и тоже, посмотрели на Агун. «Всё равно рожать буду, Симон, слышишь, буду». — «Рожай», — бранчливо согласился Симон.
— Смеюсь, потому что я свою похлёбку для собаки варю, а ты своё стихотворение наизусть не учишь.
— Вот и возись со своей собачьей похлёбкой, а надо мной нечего смеяться.
— Вот как?
— А не то сама прочитай наизусть, можешь?
— Я неграмотная женщина.
— Раз неграмотная — не смейся.
— Ох, чтоб всем вам провалиться сквозь землю, да в преисподнюю прямо, не куда-нибудь, это кто же здесь неграмотный?! — И, заправив, как девушка, сбившуюся прядку за ухо, она сказала: — Ованес Туманян. «Взятие крепости Тмук».
— Пах-пах-пах!
— Ну слушай!
— А мы это не проходили.
— И я не проходила.
— Разве в третьем классе это проходят?
— А у меня образование нулевого класса.
— Деяния — что это такое?
— Деяния — это дела.
— Твой полководец-отец прибыл. Будете жить вместе до ста лет.
— А дальше как?
— Длинная очень вещь, времени не хватит всё сказать. Как бы авелук не забыть…
Поднимаясь на чердак, она глянула вниз — Симон был возле груши, он тащил за собой лошадь, и ноги его подгибались в коленях, совсем как у мурадовских сыновей. И сил, чтобы сердиться на него, никаких уже не было. Мир был печальный-печальный. И прохудившаяся, с изъеденными листьями груша с единственно зелёной прививкой, и Симон, какой-то весь поменьшавший, и тусклая, без блеска шкура их лошади, и скала эта, которой давно уже пора расколоться надвое, а она не раскалывается, держится зачем-то, — всё это было грустным, печальным до боли.
«Ку-ка-реку…»
Совсем недавно, когда же это было, господи, совсем недавно ещё детьми были, потом девушками, невестами — наполнялись тоскою и ждали — чего? Чего-то хорошего ждали, и от ожидания этого сердца наши разрывались — почему? Петух кричал под окном — говорили: гость придёт. Потом сердца наши устали и больше не бились гулко и тревожно. Ах, гость должен был прийти, гостя ждали, ждали, ждали, и пришёл гость, пришёл — торговец из Касаха на осле, с гранатами и с грязными ногами. А потом была война, мы шли за плугом и плакали, молотили на гумне, тюки тяжёлые на себе тащили, траву косили, волов подковывали, пели песни и плакали и с тоскою ждали — чего? Потрепыхалось и замерло, как зарезанная курица, сердце. Ох, хорошо дремлющим на зелёном кладбище, под каменными плитами.
А дальше? Забыла, как дальше. Ну-ка.
А ведь я за это пятёрку получила, но продолжения не помню — отчего это?
Она не откликнулась на голос ребёнка. С авелуком в руках она уселась на лестнице и сказала, качая головой:
— Не еду, нет.
И опять всё было печально в мире, всё, от начала до конца. Да, хорошо тому, у кого невозвратимая потеря есть, кто тоскует, но не может звать, и его никто не позовёт, и он может не корежиться от отвращения и внушать отвращение тоже не может. Хорошо такому.
Одного сына хотели с хорошим голосом, чтоб песни пел, — и то не получилось. Вроде бы не очень многого хотели.
— Отец, а отец, просочиться — не значит разве внутрь пройти?
— Чего, чего?
— Просочиться, говорю, не значит…
Симон сел на пень и принялся стаскивать с ноги сапог.
— Чего? — Симон повернул голову к ребёнку.
— Просочиться не значит внутрь всочиться?
— Наверное.
— Симон!
— Чего тебе, ахчи?
— Симон, поэты почему рано умирают?
— Рано умирают?
— Ну да, говорят, у них в сердце что-то разрывается.
— Ну а до смерти своей живут ведь? Им достаточно.
— Скажешь тоже.
— А что ж мне тебе говорить — хорошо делают, что рано умирают, так, что ли?
— Остроумец, ну остроумец!
— Что тебе надо от меня, ахчи?
— Опоздал почему?
— Пешком шёл.
— От самого Овита? Пешком?
Симон взглянул на неё и промолчал.
— Так тебе и надо… Тебе говорили, на лошади поезжай? В машине захотелось, рядом с шофёром!
Симон снял второй сапог, ноги положил на голенище и пошевелил пальцами ног.
— А ведь ты знал, что я опаздываю, почему не сказал себе, что торопиться надо? Помнишь, как на похороны моей тётки из-за тебя опоздали и не пошли? Помнишь?
— Я думал, и на обратном пути машина попадётся.
— Ах ты думал, значит…
— Туда была машина, я подумал, и обратно будет, а ты ведь знала, что не будет, что ж не сказала мне?
— Я ведь сказала тебе — на лошади поезжай.
— На лошади это я понимаю, а почему про машину, что не будет, не сказала?
— А ты бы дом свой на приличном месте построил… что ж я — должна сидеть тут под скалой и гадать, будет из Овита машина или не будет?
— А мне как было знать, будет или не будет?
— Мозгами бы пошевелил.
— Нету. Этого нету.
— Потому и сидишь в таком состоянии.
— Начала опять! — крикнул Серо.
— Ты ребёнок, ты молчи.
Во дворе младшего сына появилась старуха и стала бормотать то громко, то неразборчиво:
— Извела, вконец извела парня… Да что ж это за беда прямо… Угробит ведь она его, угробит… Что ж тебе от него надо, не хватит тебе, ахчи?..
— Не размахивай там руками, не испугаешь… острословы, конца вам нет, один другого пуще.
— Я в Ереван хочу, я с тобой еду.
— Вот тебе! — Агун грубо, совсем по-мужски сунула под нос ребёнку кукиш, и это уже было сверх всякой меры, это было то, отчего у Симона начинала накаляться голова.
Симон встал, хлопнул сапог оземь, зашвырнул топор в сад, плюнул и ушёл в дом.
Она на секунду смешалась, на секунду, казалось, поняла, что плохое что-то сделала, потом запретила себе быть мягкой и уступчивой.
— Это вы можете, — сказала она в сторону хлопнувшей двери. — Разбивайте, разрушайте всё, пора уже, давно в доме ничего не билось… — Ладно, не будем обращать внимания, надо ещё авелук пристроить, а потом можно начать седлать лошадь, пусть этому, в доме, станет стыдно. Не забыть бы большую клетчатую шаль. На руках будут две пятёрки, одна трёшка, одна рублёвка, достаточно. — Серо, — спросила она задумчиво, — две пятёрки, одна трёшка и одна рублёвка — сколько будет?
Но Серо не было. Серо плакал в хлеву. Когда она подошла к нему, он ухватился за балку, а когда она потянула его к себе, Серо лёг на землю и стал бить ногами по земле.
— Так вот и защищайте его, отца своего. От всяких извергов, — и она, вся полная слёз и ярости, вернулась к своим узлам. Значит, так, рублёвка — шофёру, билет на поезд стоит три рубля семьдесят копеек, — трёшки на билет мало будет, пятёрки — много, надо, чтобы всё было заранее продумано, пятёрки неприкосновенные, шофёр должен вернуть пятьдесят копеек, поскольку билет на машину стоит пятьдесят копеек, так сдача шофёра вместе с трёшкой — вот тебе и билет на поезд. Нет, вроде бы не так. — Серо… старыми деньгами билет на поезд стоил тридцать семь рублей пятьдесят копеек. Старая десятка теперь рубль. Значит, сколько сейчас стоит билет? — Мой отец Ишхан и моя мачеха ругались и обедали одновременно, а эти нежные, этим хлеб в горло не полезет, если кто-то что-то не так сказал. Ах, что эти умеют — ничего не умеют, ни ругаться, ни хлеб по-человечески есть. — Серо, слышишь меня?.. Вот уеду в Ереван и не вернусь больше.
— И не надо.
— Не вернусь, останусь у Армена.
— Оставайся.
— Вот и Арменак так говорил, а теперь, когда корзины и мешки с едой получает, — ничего, доволен, кажется. Ну ладно, не время ссориться, вставай с земли, подымайся.
— Приказывает ещё!
— Если кусочек гаты дам — помиришься со мной?
— Ешь свою гату сама.
— Вставай, тебе говорят!
Снова залаяла их собака, и мигом откликнулась ей Адамова собака, и снова заворчала во дворе младшего сына старуха.
Агун поглядела в ту сторону и сказала себе, что она герой, потому что не отвечает старухе. А не отвечает, потому что у неё дом есть, дело неотложное есть, потому что некогда.
— Вот так, — ласково сказала Агун и отряхнула ребёнка, — изменилась твоя бабка Арус, на сто градусов повернула. Когда Армен выпал из люльки и разбил в кровь лицо, она рядом стояла, глухой притворялась, а теперь даром что глухая — откуда куда ушки навострила, всё слышит, что я тебе говорю. Билет на поезд старыми деньгами стоил тридцать семь рублей пятьдесят копеек, посчитай-ка, сколько на новые будет? Брат твой тоже хромал по арифметике. Скажи отцу, садимся обедать.
Симону с какого-то дня стали не нравиться её обеды. Сварит она картофельную похлёбку — пересолила, говорит, поставит на стол яички — переварила, говорит, вот тебе плов, скажет, — Симон поморщится, вот поросячья голова — нехорошо опалила, яичницу, ты яичницу любишь — мёду подай, говорит, с мёдом хочу, сегодня картошку в мундире будем есть, гляди, какая рассыпчатая… — другие, говорит, кожуру снимают, с солью варят. Кто это — другие? Мацун как делаешь, другие молоко со сливками заквашивают. Да кто, кто это — другие?! Воду в стакане на блюдечке подавай, под тарелку с супом маленькую скатерку расстилай, хлеб ножом режь, нет ли яблочка или груши, во рту высохло, а мясо люди через мясорубку пропускают и котлеты делают. Да кто же это, в конце концов, кто так делает?! Ну кто же ещё — шлюха Сона. Агун в мае в горы ушла, с волками, градом и дождём воевала — эта в июне завладела Симоном. Июнь, июль, август, сентябрь. Не месяц медовый, целое лето медовое провели. Яйца переварила, плов не так сварила, мацун почему без сливок, — ах, чтоб вас всех, пропади пропадом ваш мёд, и ваша яичница, и ваш сельсовет, и ваш на всё село позор — идите ешьте теперь свою яичницу с мёдом!
«За твои труды великие… котлеты на столе тебя дожидаются, милости просим…»
Вчера вечером времени на обед не хватило, с поклажей завозилась. Минутку подумав, она кособокую неудавшуюся гату разделила пополам, половину возле Симонова обеда положила, половину — на тарелку Серо. И потому что она к ним такая добрая была, потому что уезжала и опаздывала — она и права была тоже — она, Агун, не попросила их, а приказала:
— Поторапливайтесь, мне пора.
— Пожалей меня, Агуник, не жалко тебе меня?
— А меня не жалко, в грязных носках из хлева в комнату прёте, по ковру прямо. Кто чистит — тот пускай и думает.
Симон посмотрел на ковёр, на свои сапоги — Агун снова была права, и очень ему стало не по себе, поскольку большая, настоящая правда была за ним, а маленькая, фактическая, — за Агун. И всегда так бывало. Всегда.
— Я извиняюсь, — сказал он, — я извиняюсь.
— Серо!
— В Ереван с тобой еду!
— Никаких Ереванов, ешь быстрее. Накроши хлеба и ешь.
— Не хочу.
И тогда она взяла хлеб и сама покрошила в его миску:
— Ешь! Гату — в конце. Сколько с книжки взял, сколько оставил, муженёчек? Гату, сказано, в конце!
— Денег в кассе не было, что было, то и взял.
— Сколько всего?
— Семьсот.
— Семь тысяч, значит?
— Да.
— А сколько надо было?
— Ты говорила, десять.
— И что, в кассе ни копейки больше не было?
— Сколько было — всё мне дали.
— Во всём банке денег не было?
— Что значит — во всём банке денег не было?
— А это значит, что, если ты к цветущему дереву подойдёшь, дерево в минуточку засохнет.
Ложка замерла у Симона в руке, потом он сказал ребёнку:
— Ешь скорее.
Ребёнок стал есть, но сам Симон не мог, не елось, не глоталось, нет, не мог. Дышать было трудно, и горло как бы сдавило. Когда Арменаку было столько, сколько Серо сейчас, вопрос однажды встал очень серьёзно. Он косил траву, Арменак воду подносил, сено подбирал, помогал, словом, и вдруг само собой сказалось, потому что сдерживаться уже не было никаких сил: «Ты большой мальчик, Армен, — сказал он, — положение моё очень трудное, хочу мать твою прогнать, что скажешь?» Армен сказал — да. Потом сказал — нет. Потом пошёл, принёс воды и снова сказал — да. Потом сказал: «А не жалко разве будет, что она станет без нас делать?» Домой они в тот день пришли поздно вечером, почти что ночью, и как назло — она ждала их, добрая и тихая, а на столе цыплёнок был, лоби, мёд и чай, и она сидела и ждала их. И такая вся была женщина, такая вся — мать… Она загнала их в корыто, хорошенько выкупала обоих, уложила в постель, укрыла тепло-тепло, прикрутила огонь в лампе, а сама долго ещё стирала во дворе. На следующий день Симон опять взял Армена в поле, хотя ребёнок хныкал, никак не мог проснуться. Но Симон не хотел оставлять его наедине с матерью, потому что они бы непременно разговорились и ребёнок бы рассказал про вчерашний разговор.
— Сколько было в банке, столько и взял, — сказал Симон. — Дай поесть спокойно.
— Ешь, — сказала она, — курица ещё есть. А сколько я должна была с собой взять, сколько мне не хватает?
— Трёхсот.
— Трёх тысяч, значит?
— Трёх тысяч.
— А ты не можешь у Сако долг свой спросить?
— Сако в горах, да и должен он всего шестьдесят рублей.
— Шестьсот?
— Шесть сот.
«Шесть да три», — посчитала она в уме.
— Сако в горах, но Лусик-то дома. И если у неё нету шестисот, то хоть триста найдётся, а другие триста после отдаст.
— Если даже она даст триста рублей, получится семьсот тридцать, разница-то небольшая, не стоит людей тревожить.
«Семь да три», — посчитала она.
— Как же это так, ну и что ж, что я неграмотная, зачем меня обманывать?
— Кто ж тебя обманывает?
— Семь да три будет десять.
— Сако нам должен шестьдесят рублей, половина шестидесяти будет тридцать, а я из банка взял семьсот рублей, семьсот да тридцать — это тебе семьсот тридцать рублей.
— Серо, я тебе сейчас бумагу с карандашом принесу, подсчитай мне.
С ложкой на весу Симон так и замер на месте, так и застыл.
— Сейчас курицу дам, — сказала она. — В арифметике я всегда была глупая, сам знаешь.
— Старые и новые деньги путаешь, — сказал Симон.
— Что бы то ни было, хороший повод попросить долг.
— Сейчас у них нету, овец продадут, тогда и нам вернут.
— Наши овцы нестриженые остались.
— Сегодня постригу.
— А если, — сказала Агун, — если он поедет в Кировакан и продаст там своих овец, он разве эти деньги привезёт домой? Ты бы привёз?
— А почему это, интересно, не привёз?
— А потому, что он на эти деньги, Симон милый, ума себе немножко купит, да ситцу, да ботинок.
— И то верно, — сказал Симон.
— И мы свой должок так и не получим. И что же мы тогда будем делать?
— Не знаю. Сейчас у них нету.
— Уф! К цветущему дереву подойдёшь — засохнет.
Ребёнок поднял голову — ложка замерла в руках отца — сейчас тарелка его будет отодвинута и с силой хлопнет дверь, а мать скажет «это вы можете». Резко повернувшись к матери, приготовившись швырнуть тарелку оземь, ребёнок показал ей подбородком на дверь: «Быстро!»
— Не буду больше, ладно, — присмирела она. — Вашего честного, справедливого отца так всегда и защищайте. — И, сложив руки на груди, она вся сжалась, стала маленькая, с горсточку, угнетённая, послушная, безответная раба. Гату испекла, курицу выпотрошила — сварила литр по литру, молоко экономила — овечьего сыру изготовила, правдами и неправдами в магазине муку высшего сорта выцарапала, чтобы хлеб у этих вкусный был, а кто спасибо сказал, кто спросил: «Агун, а сама-то ты что ела?» Шестьсот, триста, четыреста, десятка, пятёрка, двадцать рублей, двадцать пять — все долги его она собирает, а кто слово доброе сказал? Наоборот. «Мужу житья не даёшь, извела человека». Извела? А вы придите, побудьте на моём месте, посмотрим, как запоёте. Сирота, беспомощная, неграмотная, неумелая — тут корова, там свинья, тут стирка, там обед, да ещё собаке похлёбку сготовь, да ещё и между делом четыре ковра сотки — «линия кривая у тебя, Агун». Она заплакала и, чтобы не портить им аппетита своими слёзами, — как же, они ведь чувствительные все, — она повернулась и, ещё больше сжавшись, став невидимкой почти, вышла из комнаты. Но чтобы работнички её накушались и были довольны, она поставила на стол курицу. И вышла за дверь. Как служанка, как раба, которая привыкла накрывать полный стол и убирать пустой.
— Она твоя мать, — сказал Симон, — в другой раз так с ней не обращайся.
— А тебе она жена, часу без ругани не можете прожить.
— Она права была.
— Права, права, только и знает ругается.
— Ешь. И слушайся её, она всегда права.
— А ты бы на лошади в Овит поехал, она потому разозлилась.
— Я думал, машина обратная будет, скорее вернусь.
— Ножку не хочу.
— Белое хочешь мясо?
— И белое не хочу, в зубах застревает.
— А ты не жуй.
— Ха-ха-ха-ха… А кто это был — туты наелся, потом огурцов, и живот ему вспучило?
— Врацонц Авак.
— Дед Риты?
— Да… Риты, да.
— А сколько он туты съел?
— Пуд. Пудовое ведро.
— А потом что было?
— Во время обеда про это нельзя говорить.
— Отправь меня в Ереван.
— В январе на каникулах повезу.
— Я навсегда хочу.
— Седьмой класс кончишь — тогда.
— Тогда я и так поеду. Я сейчас хочу.
— Так и так, говоришь, поедешь? А нас, значит, одних оставишь? Что же мы тут без тебя будем делать?
— Не знаю, не моё дело.
— А чьё же?
— А Армена, как же его отправили?
— Думали, выучится и вернётся, а он, видишь, не вернулся.
— Мы с Арменом в городе будем жить, вы — здесь. Я буду приезжать к вам. Иногда.
— Ладно. Седьмой кончишь, там видно будет.
Симон, усталый и оглохший, возвращался с поля домой — огни в доме горели, в саду журчала вода, в печи помаргивал огонёк, но в доме была тишина. «Опять, наверное, с дочкой поругалась». Симон кашлянул и вошёл в дом — дочь не слушала своего любимого концерта по заявкам, не сидела за столом, уткнувшись в книгу, как всегда. Агун одна сидела возле сундука с приданым дочери и плакала. «Ну что, опять поругалась?» — «Дочка наша в Кировакан убежала, Симон». — «А экзамены как же?» — «Пятёрку получила, с учителем и убежала». Симон сел на тахту и подождал. Ничего не происходило. Свет в комнате горел, висел ковёр на стене, во дворе клокотала вода в чайнике, на подоконнике стояла стопка дочкиных учебников, и потягивала носом возле сундука Агун. «А парень-то, — сказал Симон, — парень-то хоть приличный или шпана какая?» — «Учитель истории», — прорыдала Агун. «Ну ладно, ладно, не плачь». — «Вчера поругались с ней, сказала «больше домой не приду», а я этим проклятым языком, вырвать бы его, вырвать с корнем: «Этого-то я и хочу», — закачалась перед портретом дочери Агун. Симон, покряхтывая, прилёг на тахту, облокотился на мутаку и глухо и устало сказал: «Арменак приедет, что-нибудь придумаем». И так и заснул на тахте одетый, а утром, утром постель дочери была пустой и навевающей грусть. Армен в то лето на каникулы не приехал, только шуточки шутил из Сибири: «Без гонорара строчки не могу уже написать, потому и письма пишу редко». В газетах появлялись его статьи, которые были не так чтобы очень хороши, но той осенью его за эти статьи похвалили. Он прислал весточку, что приедет в ноябре дней на пять, но в ноябре он диктовал статью по телефону то ли из Болгарии, то ли из Чехословакии. Агун в то время тридцать семь лет было, Симону — сорок восемь. Когда Симону было уже восемнадцать, а то и все двадцать, а Адам был уже женат, дед Абел и бабка Арус родили Акопа. Да и что тут стыдного? Балагуры немного побалагурят, люди понятливые поймут, что трудно на свете жить одиноко, как сыч. А вообще-то ребёнка мы для себя рожаем, а не для каких-нибудь там балагуров или умников. Немножко неловко будет перед Арменом — его видели в поезде Тбилиси — Ереван в большой компании девушек и парней, и парни у всех на виду обнимали этих девушек за шею, но, если у Армена есть хоть капля сознания, пускай войдёт в положение родителей. «Рожай, — сказал Симон, — тебе тридцать семь лет, мне сорок восемь». — «Симо-о-он, — из-под Цицкара позвал Фило, — магарыч за тобой-о-ой… магары-ыч». Косари налегли на Симона, пристали — пляши-де, ещё один журналист родился. Виски белые-белые, волосы редкие — Симон два-три раза покрутился на месте, потом засмеялся смущённо: «Айта, неудобно, оставьте». Потом они поволокли Симона в конец поля и сказали: «Коси снизу вверх», — и сами выстроились за ним. Потом все выпили мацуну и мёда — за здоровье новорождённого журналиста и погнали Симона за водой. А вардановский косой Арто привязался — должен, мол, протащить меня на закорках, но тут Мушег схватил Арто за руки и посадил Симона тому на закорки. Целый день прошёл в шутках и смехе, но вечером по дороге домой Симон сказал товарищам: «Нет, этот наш будет, тот — всему миру, этот нам». — «И не заметишь, как за братом потянется, — усмехнулся Мушег, — в город, дай бог долгой жизни городу». Безлунная была ночь, лес был тёмный, как грязь, спускались, спотыкаясь, напарываясь на деревья, чертыхаясь. Когда же выбрались из лесу и ступили в село, вардановский косой Артавазд отошёл на шаг от тропинки и приказал шепелявя: «Дивизия, становись! — И, пропустив всех вперёд, сказал сокрушённо и весело: — Вашу мать… слепые, хромые, плешивые, самый молодой из нас вроде бы я, а поглядите-ка на меня, ни одна женщина в городе не позарится на такую образину». У поворота Симон остановился и позвал всех к себе выпить по стаканчику. И когда они проходили мимо дома деда Никала, что в овраге, Симон сказал: «Честно вам говорю, этого для села делали». — «Никто своему ребёнку худа не желает», — сказал Мушег, и Симон ответил: «А себе худа желает?» — «Болтаете всякое, прямо как дети, как будто всё в этом мире по вашему желанию должно устроиться, жизнь, она течёт сама по себе», — и Симон оглянулся и увидел дядюшку Аршака из Врацонцев — он стоял по ту сторону ручья и искал место поуже, чтобы перейти ручей. Мир праху твоему, Арашак. «Агуник-джан, как ты?» — тихо спросил Симон. «Это кто там с тобой пришёл?» — «Ребята наши, позвал выпить по стаканчику». — «Какие ребята?» — «Да наши, косили вместе». — «Чуда-ак, ох чудак!» — улыбнулась Агун, и Симон не понял, почему она так сказала. «Сейчас провожу их», — сказал Симон и пошёл в маленькую комнату с литровой бутылкой — там под электрическим светом, как перебитые, навалились друг на дружку и спали ребята — небритые, лица в морщинках, лысые и полулысые, косые, кривые, шепелявые, беззубые или с одним-двумя зубами, — ребята спали сидя, и Симон понял, почему Агун так сказала.
— Ахчи, это как же ты дотащишь всё?
— Что, пожалуйста?
— Говорю, как столько повезёшь?
— Я каменная.
Симон оседлал возле дверей хлева лошадь, потом привёл, привязал её к балке:
— Будем грузить?
— Ежели сон тебя не сморил ещё.
— Здорово тяжёлая поклажа. Адам!..
— Нет!
— Что нет?
— Не зови, вдвоём управимся.
— Э, Симон, чего тебе?
— Что, телегу делаешь?
— Да потихоньку.
— Иди сюда.
В дверях младшего сына возликовала старуха.
— Вот так. Помогайте друг другу, друг друга защищайте, совета один у другого спрашивайте, так и живите, — пробормотала старуха.
— Агуник. — Симон вошёл в большую комнату. Агун одевалась. — В этой юбке поедешь?
— Да, Симон.
— А не тесная она тебе?
— Ты своё дело знай делай. Одну лошадь надо оседлать — ты брата позови, и младшего вызови, и Мурадов кликни, может, удастся всем селом оседлать лошадь.
— Всё говоришь, говоришь, не даёшь человеку рта раскрыть.
— Для того чтобы выслушать твоего брата Адама, целый год нужен да клещи побольше. Чего тебе?
— Говорю, напишем письмо, пускай сам за своим грузом приедет.
— Молодец!
— Или же давай я поеду, тебе одной не справиться.
— Поедешь, месяц там просидишь. Потом спроси у тебя — какая, мол, невестка из себя. Да так, скажешь, девушка как девушка. Что Армен делает? Что-то делает. На брюки, на рубашки должен был купить, где всё это? Да купим, успеется. Что ж, Симон, поезжай, если хочешь.
— Да ведь больная вернёшься, знаю.
— Моя болезнь на минуту, это вы стонете и кряхтите годами.
— Вот они, держи. Куда прятать будешь?
— Сколько здесь?
Симон стал считать, медленно, то и дело сбиваясь и снова начиная счёт.
— Брат твой идёт, кончай, — прошипела она.
— Семьсот.
— Семь тысяч?
— Да. Куда будешь прятать?
— Тебя не касается, — прошипела она.
Во время войны они поехали в Тифлис проведать ребят — Арус была, Красная Сато, она сама, егоровская Сируш. Возле Манаца свет в поезде погас, и женский голос вскрикнул и запричитал: «Унесли, унесли, детей моих голодными оставили, душегубы!» Кто-то отпрянул к стене, и тут словно кто шепнул Агун, что это её брат Валод. Агун зажгла спичку, поднесла к его лицу и сказала: «Валод?» — «Агуник? — сказал он и задул спичку. — Ты что тут делаешь?» — «А ты что делаешь, что это ты тащишь, ну-ка? — Агун подалась вперёд и протянула руку к мешку: — Сейчас тебя милиции отдам, хулиган несчастный… — В темноте ещё какие-то руки тянули к себе мешок, и рук этих было много. — Ишхану скажу, Валод, бессовестный… жалко ведь женщину», — попросила Агун. Валод засмеялся: «Братцы, сестра моя это… Агуник! Не сходишь в Манаце? Ишхан для тебя мыла купил», — и, прежде чем поезд остановился, то ли спрыгнули они, то ли перешли в другой вагон, а та женщина уж так благодарила Агун, так благодарила…
— Две пятёрки, одна трёшка и рублёвка — сколько будет?
— Десять, четырнадцать.
— Отдали деньги на билет. Сколько тут — трёшка и рубль — четыре? Билет разве четыре рубля стоит?
— Сдачу тебе вернут. Но вещей много, боюсь, что и за вещи возьмут.
— Контроль в поезде очень строгий?
— Да откуда же мне знать, Агун, — рассердился Симон. — Я где — станция где, откуда мне знать, строгий там контроль или нет.
— Ну ладно, ладно, не усложняй всё, — шёпотом сказала она. — Значит, это деньги на билет. Хорошенькое время выбрал, чтобы брата звать. Посмотри в карманах, нет ли мелочи.
— Да откуда?
— Кто тебя знает, торговый всё-таки человек. Пойди брату навстречу, ребёнка пришли ко мне. Серо!..
Симон снова запротестовал:
— Ахчи, или дай я свезу, или пускай сам едет за своим имуществом, взрослый человек, тридцатилетний.
— Да ведь работа у него какая, умственная, неужто объяснять тебе ещё надо, Симон.
Серо на свои копейки купил, оказывается, авторучку, потом потерял её. «Ничего, ты за домом смотри как следует, а я тебе из города хорошую ручку привезу, от брата твоего подарок». А эта проклятая пуговица у горла прямо-таки душила её — тысячу раз просила дочку ворот пошире сделать. И шерстяной жакет под мышкой жмёт, тесноват, а может, рукава кофты задрались — потому? И как это горожане умеют так одеваться, что вроде бы вся одежда и прилегает к телу, и нигде им не мешает. Удивительно, вроде бы и тесно, и свободно. Значит, очень правильно одеваются. А может быть, ворот душит, потому что зоб раздулся? Когда в Ереване у её сына и невестки будет свой дом, как-нибудь зимой она приедет к ним дней на двадцать, ляжет в больницу, невестка будет носить ей обед, а она будет там вязать шаль и беседовать с соседками по палате. Ну ладно, что это — водка? Водка и полкурицы. Кизиловая водка. Контролёры и проводник в поезде не разберут, грушевая или кизиловая, так что кизиловая, вот так и разрешим вопрос с вещами. А с обувью как быть? Без приличной обуви нога не нога. Но и без асфальта обувь не обувь. Так и не приучилась она носить городскую обувь. Ничего, как-нибудь и с этим справимся. Когда это было — в селе задались вопросом, кто в данный момент в Цмакуте самый красивый, и решили, что среди всех невест и невесток самая красивая симоновская Агун и ещё Елена, дочка Левона, но потом рассудили, что если учесть, что Агун мать двух детей и жила в хлеву и её свекровь — Арус, а Левонова дочка Елена ещё в девках сидит, то выходит, что самая красивая Агун, а будет ли красивой левоновская Елена — это видно станет после того, как она выйдет замуж за никудышного человека.
Она вытерла сажу с носа и вспомнила село Ванкер, вспомнила родник в монастырском дворе, тропинку между садами, вечер и себя с вёдрами. Брат Арзуманяна катался на велосипеде, а возле их дверей стояли двое — русый Нерсес и чёрный Симон. Во время войны брат Арзуманяна был секретарём райкома, он приехал на машине в Цмакут, засел вместе с Коротышкой Арташем в конторе и стал по одной вызывать женщин села — бойких на язык увещевал, смирных и работящих хвалил и уговаривал ещё лучше работать. Арташ сказал Шогер: «Агун пускай не заходит». Но Агун дала Шогер подержать дочку и вошла в контору, и тогда Коротышка Арташ сказал: «Эта у нас кусачая, с ней поосторожнее надо, товарищ Арзуманян». А брат Арзуманяна посмотрел на женщину и вдруг вскочил с места: «Вай, Агуник-джан, это ты?!» — и Арташу стало очень стыдно.
— Я готова.
— Сажу с лица в Ереване смоешь? — Симон с Адамом грузили поклажу.
Она зашла в дом, стёрла с лица сажу и вынесла из дома такой ответ:
— Если бы я, как вы, черноликая была, и сажу б не разглядеть было.
Когда Симон поднимал груз, шапка его слетела и обнажилась большая неровная голова. Лоб у Симона покраснел, и весь он согнулся в три погибели. А Адам свой груз нёс легко и спокойно. Симон ударился о перила, опустился на колени и застонал. Груз они, конечно, разделили неровно — Симон под тяжестью задыхался, а Адам брал что полегче. Вот так они всегда — пока семь раз не перевьючат лошадь, дело на лад не пойдёт. Как-то Адам поехал в Касах — за пшеницей, — так лошадь вернулась, наполовину навьюченная камнями: Адам для равновесия подкладывал с одной, лёгкой, стороны каменья.
«Не давай себе воли, успокойся, успокойся, — пробормотала Агун. — Они сами разберутся, что к чему, не окончательные же дураки, в самом деле».
Адам обошёл лошадь, пристроил свою часть поклажи к седлу и подождал, пока Симон тоже пристроит свою часть, а Симон мучился, не мог удержать на весу хурджин.
— Ну? — подождал Адам.
Симон поднатужился и приладил наконец хурджин. И виновато улыбнулся.
— Ты чем же это хурджины набила, Агуник?
— Да так, на выброс всё, доедем до Гамера — выкинем.
Подпихивая, подтягивая, подпирая груз, а то и повисая на нём, они кое-как укрепили его всё-таки, и Симон пошёл сесть на пенёк, отдохнуть. Он несколько раз примеривался, чтобы сесть, но пенёк как бы уходил из-под него: Адам ощупал груз с двух сторон, оглядел его сзади и сказал:
— Хорошо приладили, брат, на славу. А правда, чего это ты столько нагрузила, ахчи?
— По-вашему, эта лошадь правильно навьючена? — спокойно спросила Агун.
Адам встал, принёс узел с бельём, приладив его, сказал:
— Наше мнение… здесь… нуль… — Потом закинул сверху верёвку и подтянул её снизу. — А вот что думают по этому поводу в Ванкере? — И затянул верёвку потуже.
— В Ванкере думают, что эта лошадь не дойдёт до Гамера.
— Камней подложишь, — сказал Адам.
— Вот-вот, совсем как мой деверь делает.
Они препирались так, а Симон как-то потухше, безжизненно смотрел на всё это со своего пенька. Серо поднял шапку, надел её отцу на голову. Симон безучастно поправил шапку и стал очень похож на Асоренца Мацака, потому что ширинка у него была расстёгнута и козырёк наползал на ухо.
— Ахчи, — сказал Симон, — ещё раз говорю тебе, ты с этим грузом не справишься.
— Серо, выводи лошадь со двора. Всё! А вы смотрите на свою работёнку и любуйтесь, смотрите и удивляйтесь.
Ну всё вроде. Вечером они поужинают остатками курицы и хлеба с сыром поедят. Завтра прикончат остатки сегодняшнего супа. Завтра утром курицы снесут яйца, съедят по две штуки каждый. На послезавтра обед им сварит невестка Адама Назик, а послепослезавтра она сама уже будет дома и сама займётся делами своего дома. Всё! Двери затворены, собака на привязи, приёмник выключен, надо будет Ерджо поднести стакан кизиловой водки, пускай сделает счётчик как в городе, такой, чтобы не крутился. Серо был уже возле каменной гряды — груз сидел на лошади ладно и не сбивался. Симон вышел за ограду и пошёл по узенькой тропке над оврагом. Но шагал он так, словно вот-вот должен был поскользнуться, словно что-то затягивало его в овраг. Адам снова уже торчал возле вечной своей телеги.
— Так что же ты для меня должна была привезти, значит?
— Самую тёплую на свете шапку.
— Молодец, — засмеялся Адам.
— Пошла уже? Благополучия и удачи твоей дороге! — сказала старуха.
— А тебе здоровья (чтоб смотреть, вытаращив глаза, кто куда едет, да с кем идёт, да что несёт)…
Они прошли дом Фило, прошли дом Мушега и поравнялись с домом Соны. Шлюха Сона сошла с ума и умерла в кироваканской больнице. А сыновья её сколько лет уже живут в Грозном. Сыновья хорошо живут, но Сона и в глаза не увидела этого Грозного. «Тебя моё проклятье в могилу унесло, потому что я была правая, а ты как собака виноватая».
За изгородью, петляющей вместе с тропинкой, за двумя вишнями и зарослями земляных яблок был дом атоевского Степана и каменоломня. Сын Степана Арести так и прожил всю жизнь в конуре. А ведь каменоломня считай что ихняя, и весь камень ихний.
Дальше был дом директора Рубена. Дом у Рубена двухэтажный, крепкий, перила выкрашены в голубой цвет, но Рубен в страхе и ужасе ждёт арменовского фельетона, поскольку свидетельства о высшем образовании у него нет; время от времени он даёт Симону починить скамью-парту какую-нибудь или же теннисный стол заказывает и деньги на это выписывает.
Кочаровский Грант в Кировакане машину купил, он знает её брата Валода, и брат Валод знает его, и они друг другу нравятся, и, когда этот кочаровский Грант приезжает в село, он у Агун и Симона особым образом, с особым уважением справляется о здоровье, о житье-бытье. Благодаря Армену и Валоду.
Дядюшка Амбо, было время, с большим пылом принялся за постройку дома, но весь его пыл и весь размах прибрала к рукам её тётка Манишак. Дом должен был быть таким — внизу большой подвальный этаж, над ним три комнаты, и крыша особая, застеклённая — для лета. Амбо кое-как обмазал одну комнату, вошёл в неё и сидит в ней аж с самого двадцать восьмого года, а дом так и остался стоять недостроенный, с разинутой, как у хозяина, пастью.
— Ребёнка собралась проведать? — со слезящимися треугольничками глаз спросил дядюшка Амбо.
— Да, дядюшка. А ты когда в город переберёшься? Ребят своих отправил, один тут сидишь, не скучно разве?
— Да что же мне в этом городе-то делать? Служащие там на работу ходят, это мы понимаем, а старикам что делать? Овец нет, свиней нет, лошадей нет — чем заняться?
— Старики там в сторожа идут.
— Уж лучше я свои палаты сторожить буду.
— Не знаю, дядюшка, не знаю, — сказала Агун, — наша доля, видно, такая, чтоб сидеть тут одним. Детей в город отправлять, самим тут сидеть.
— Счастливой тебе дороги. Ребёнку скажи, пусть выше держит честь нашего рода.
«Уж кто бы говорил».
Из-за дверей Смбата выглянула и тут же в дом юркнула его благоверная. Гоар в год по ковру делает. Однажды зимой Агун хотела пойти к ней, чтоб и помогать, и учиться, но Гоар сказала: «Я с тупицами не люблю возиться». Агун презрела её и громко заговорила со старухой из Джаджура:
— Один большой ковёр на стену, один — на тахту, не считая карпета, две постели — больше не могла. Кто больше моего сделает, пускай гордится. Холодильник. Мебель для комнаты.
Из кладбищенского оврага навстречу ей поднимался Симон-маленький. Работящий человек, ничего не скажешь, но цену себе и своему здоровью знает. Во время косьбы и пахоты палку в руки берёт — нога болит. Как мастер он Симону в подмётки не годится, но денежные заказы всегда ему достаются. Он быстро, как волк, за одну неделю всё проворачивает и снова берёт палку в руки — нога заболела. Симону это на нервы действует. Но Агун знает, что так оно и должно быть, поскольку нельзя передавать ремесло другому, да ещё в таком маленьком, с горсточку, селе, а уж раз передал, то и нечего расстраиваться из-за последствий. Однажды, когда Агун всё это высказала Симону, пришлось ей отведать очередную трёпку.
— В Ереван собралась?
— Да вот.
— Счастливо.
— И вам того же.
— Мы что — живём помаленьку.
Помаленьку… А у самого шея толстая да красная, и в доме его побоищ не бывает, хотя как раз в его доме и должны бы они быть, поскольку это его жена, а не кто-нибудь ещё спуталась во время войны с Коротышкой Арташем.
Дом тётки Манишак кажется ей сейчас родным и жалким, потому что Нерсес с войны не вернулся, а его дети хоть и выросли трудолюбивые, но не заимствовали у отца его смекалку и умение захватывать жирные должности. Хорошо бы, Арменак им помог, определить бы их куда-нибудь, кладовщиком или счетоводом.
Мелкуменц Иван рожает подряд девочек и раздаёт их, весёлых и красивых, в Цмакут, Овит, Кировакан. Была бы Седа немножечко образованней, прямо сейчас взяла бы её Агун за руку и отвезла в Ереван невесткой — и добрая девушка, и односельчанка, и городской красотой не обделена. Такая б не дала Армену забыть Цмакут и собственную мать. Да и девушку жалко. Светлая, как ясный день, бог знает какому Симону достанется она в этих самых Овитах и Кироваканах.
— Доченька?
Седа просеивала зерно. Она взглянула на Агун сквозь завесу мучной пыли и зерна, золотокосая и улыбающаяся, и запала той в сердце. Так и запомнилась она Агун — с полными крепкими руками, по колено в пшенице и чистый-чистый взгляд.
— Кто его знает, — пробормотала Агун.
Седа подняла сито к солнцу и наполнила душу Агун сомнениями и грустью.
— Тебе хорошего мужа желаю, — сказала Агун.
Когда это было — Шогер стояла вот так под солнцем и просеивала зерно, ястреб кружил между лазурью и облаками, и вдруг Шогер отставила в сторону сито, пришла и как толкнёт старуху, старуха так и повалилась на землю.
— Тебя достойный не в Цмакуте живёт и не в Овите, ты на Ереван целься, — сказала Агун.
Девушка слабо улыбнулась, и плечи её дрогнули, и Агун, задыхаясь, подумала, что красивым счастье не достаётся, что настоящая большая любовь всякому дерьму достаётся. Брат Арзуманяна бог знает кого привёл себе в жены, и Арменака заграбастала в Ереване какая-то крашеная чернявка.
— Или же иди в университет, Армен тебе поможет поступить, я скажу ему.
Синие глаза девушки наполнили сердце Агун теплом и тревогой.
— Эй, ахчи! — позвали Агун. — Эй, ахчи, опаздываешь! — крикнул Симон.
— Тебе мужа хорошего желаю, доченька, — и, оглянувшись в последний раз, Агун увидела её босые ноги по самое колено в пшенице и ситцевый подол, подхваченный ветром.
И Агун подумала, что в университетах не уму-разуму учат, а свидетельства дают, поскольку уму-разуму всё равно научить нельзя, это уже от природы, кому сколько дано, и потому есть ослы со свидетельством о высшем образовании и мудрецы, не имеющие этого свидетельства.
Симон дожидался её во дворе школы, он стоял возле турника, лошадь была привязана на кол, и, рискуя порвать штаны, Серо пытался ухватиться за перекладину турника. Шапка на Симоне была надета криво, большеголовый и чёрный Симон без выражения смотрел на приближающуюся Агун.
— Муж мой сейчас взлетит, завертится на турнике, — зло усмехнулась Агун. — А что, он может. Было время, он у нас и любовницу держал, и шапку правильно надевал.
— Ахчи, быстрей иди, — рассердился Симон.
— Перевернись разочек на турнике! — крикнула Агун. — Что тебе стоит? Ну-ка!
— Ох, чтоб язык твой отсох, надоела, — пробурчал Симон и отошёл от турника, потом, не зная, что делать, зло, враждебно посмотрел на турник и плюнул в сердцах. — Ни стыда у этой женщины, ни совести, кричит, будто в пустом поле.
Но Агун нигде не было видно.
— Куда это твоя мать делась, Серо?
— Не видел.
И вдруг Симон понял, что Агун зашла к Сако — попросить долг. И опять-таки это было стыдно, потому что только вчера Симон намекнул им, что деньги нужны, а у них не было. Что они подумают о Симоне, в каком он виде представится им?
— Да что же это за беда мне на долю выпала… — заметался по сторонам Симон.
Через некоторое время жена Сако Лусик и Агун показались из-за угла и пошли по направлению к магазину. Симон думал, Агун сейчас оглянётся, засовестившись, но она и не думала оглядываться, — беседуя, шла рядом с Лусик.
— Агуник, — позвал Симон. Она не оглянулась, только рукой знак сделала, что слышала, и продолжала вышагивать, кивая и заглядывая в лицо Лусик. — Лошадь-то застоялась, ахчи…
Из магазина она вернулась быстро. И когда она подошла к Симону, на лице её была улыбка провинившегося ребёнка.
— Ахчи, сумела? — удивился Симон.
— Ты почему же мне говорил, что шестьдесят рублей должны?
— Эти пять я ещё с прошлого января Мушегу должен!
— Что ж ты в долги влезаешь, мой торговец-муженёк?
— Да, когда радио про Арменака статью передавало, ребята пристали, купи, мол, коньяк, пришлось купить.
— Застегни брюки, шапку надень правильно. Серо-джан?.. Назначаю тебя на два дня министром у нас в доме. Из города тебе авторучку привезу, а в январе на одну неделю ереванцем у меня станешь… А теперь марш домой!
— До Гамера дойду с вами, можно?
— Пускай идёт, Агуник?
— Что?
— Говорю, до Гамера дойду с вами…
— Лети домой, быстро! Куры там, собака без присмотра, сейчас овцы с поля вернутся, свиньи придут, «до-Га-ме-ра»…
— Как будто я их свинопас. Сами в Ереван едут, а мне куры, собака. — Серо с плачем повернул обратно.
Симон жалеючи смотрел ему вслед, но Агун уже тянула за собой лошадь.
— Опаздываем, пошевеливайся! — рассердилась на мужа Агун.
Симон взял в руки узел, спустился коротенькой тропкой, подождал Агун с лошадью на перекрёстке. Потом привязал поводья к седлу и пустил лошадь вперёд. И сказал Агун:
— С ребёнком грубо обращаешься.
— Твоя мать с тобою ласково обращалась — и вот что мы имеем. А я Арменака била… быстрее иди, не отставай.
— Ахчи, как же ты с этим грузом до места доберёшься? — Симон закинул на плечо узел, и снова ноги его заскользили по тропе неуверенно, вот-вот, казалось, упадёт человек.
— Слушай, муж, ты как это ноги переставляешь, не пойму.
— А тебе что, мешаю я тебе, что ли.
— Расстегни пуговицу у ворота. Видал маленького Симона? Здоров как бык.
По ту сторону моста, над самой дорогой сидела девушка, и какой-то мужчина лежал на земле рядом с ней. Мужчина повернул голову и посмотрел на них поверх плеча. Симон, громко топая, перешёл мост, сзади бесшумно шла Агун — новая невестка Врацонцев сидела рядом с каким-то мужчиной, мужчина повернул голову, потом приподнялся на локте — это был Сурен, сын Врацонца Аршака.
— Ругаетесь или уже миритесь, айта? — позвал Симон.
— И хотел бы, да не получается, дядя Симон, не получается ругаться.
Симон засмеялся и покраснел:
— Что, вкусная небось?
— Вкусная-то пока ещё вкусная, посмотрим, что будет, когда вкус пройдёт.
— Не спеши, зачем торопиться, — поправляя груз на спине, сказал Симон.
— Куда это вы всем семейством собрались?
— Да вот, Арменак наш свободен был от твоей боли, идём, чтобы осчастливить его, пора, решили.
Сурен с Симоном рассмеялись, а Агун крикнула в сторону, как ей показалось, обиженной невестки:
— Не верь им, доченька, не слушай их, а муж твой из хорошего рода, удачный выбор сделала, дочка, молодец. — И, незаметно толкнув Симона в бок, Агун сказала тихонечко: — А ты как отец не на должной высоте, понял?
И они пошли дальше, продолжая беседовать, муж с женой.
— На какой ещё такой высоте?
— Авторитета у тебя нет.
— Почему это нет?
— Быстрее иди. Твоё слово должно было для него быть законом. Если б даже министром стал — твоё слово законом для него должно было быть. А он? Остановится хоть раз рядом с тобой, поговорит о чём-нибудь?
— Тридцать лет человеку, сам всё должен понимать.
— А кто не понимает, того вразумляют.
— Что, уже и Армен стал непонимающим?
— В некоторых вопросах родительское слово должно быть законом.
— Ты это в смысле невестки? — остановился Симон.
— Хотя бы и в этом смысле.
Симон занервничал:
— Ахчи, ахчи, он больше нашего видел, что у него, своих глаз нет, что ли?
— Глаза есть, да вот ивановскую Седу не разглядел.
— Дочку кузнеца, что ли?.. Хватит глупости болтать!
— Дочка кузнеца стояла на солнце, пшеницу и золото сеяла, она стояла посреди пшеницы, босая, руки её вздымались высоко, гора пшеницы доходила ей до коленей, а шелуха развевалась-рассыпалась по воздуху до самой изгороди.
— В школе как она училась, хорошо? — спросил Симон.
— В этом году кончает, в десятом ещё.
— А вроде бы ты права, Агуник.
— Я всегда права, да только всякому правому слушатель толковый требуется. Деревенская девушка быстро горожанкой делается, но деревню не забывает. А горожанка, горожанка к селу никогда не привыкнет… Одной ногой она всегда в Цмакуте будет, поскольку нельзя же всё за деньги покупать, деревенский продукт всегда нужен. Город полон писателей и министров, а для Цмакута и министр, и писатель, и редактор, и композитор — на всё про всё один Арменак. Большое имя больших расходов требует, а если большие расходы уменьшатся — и имя меньше станет. Он тебя любит, всё «мой отец» повторяет, но у тебя самостоятельного мышления нисколечко нету. А то бы ты давно его уже уговорил на ком-нибудь из наших жениться. Потому и говорю, что в этом доме ты как отец нуль, лишён голоса. Послушай, муж, да как же это ты ходишь, не пойму…
— А как?
— Раскорякой.
Симон выпрямился. Поправил груз за спиной и сказал в сердцах:
— Господи правый, вернёшься и заболеешь на нашу голову.
— Из Овита правда что пешком шёл?
— Нет, специальным самолётом прибыл.
— Сам виноват, умник…
— Скажешь ему — когда тебя из школы исключили, когда ты целую неделю не ходил на уроки, а учебники прятал в часовне и бог знает где болтался с пастухами, вот-вот уже сам должен был стать пастухом, — твой отец, больной был, встал с постели и пошёл в Овит, и семь потов с него сошло на той овитовской дороге и в доме Хачатряна… тоже, скажешь, если ты хороший сын нам, подумай о нас, позаботься.
— Ишь… ишь… ежели ты столько понимал, что же молчал, когда я его в ветеринарный толкала, что же тогда воды в рот набрал? Чтобы тебя любили — под их дудку пляшешь, всё по-ихнему делаешь. А видишь, что вышло, — пишет, пишет, пишет, за ночь написанное утром рвёт, хочет стать большим писателем и не понимает, что невозможно это. Столько писателей сейчас развелось, кто ему дорогу уступит.
— Радио, когда про него передачу давало, вроде бы по этой передаче так получалось, что он большой писатель, Агуник.
— Болтаешь, как малое дитя. Ни дома своего, ни денег, и отец не отец, и мать неграмотная, а сам он хилый ребёнок, а ты — «большой писатель». Слушай, муж, походка твоя изменилась вроде, как же ты ходишь, не пойму.
— Постарел я, Агуник. Постарел.
— Будто бы много радости от тебя молодого было, теперь ещё и «постарел». Если бы ты ловким человеком был, ты бы знаешь что сделал сейчас? Спроси — что?.. Твоя любимая мать Арус, когда вы трое были на войне, как доходила до этого места, разувалась, дальше босиком шла, шла, шла, шла… Так хочешь знать, что бы ты сейчас сделал? Слушай, чтобы потом наорать на меня. Ты бы зарезал двух-трёх овец, мясо бы засолил, купил бы сорок бутылок пива и несколько бутылок коньяку в овитовском магазине, слушаешь меня? Слушай хорошенько, из овитовской почты позвонил бы в Ереван: «Собери-ка этих редакторов, всех, какие есть, вези их сюда, скажи: отец мой всех приглашает». Две овцы что такое — пустяк. «Отец мой приглашает вас, чтобы угостить на деревенский лад». После этого дела бы у твоего сына пошли совсем по-другому, а то — «мать, дай-ка тридцать копеек на хлеб». Подумай хорошенько. А?.. — И, оглянувшись, она увидела на лице Симона жалкую улыбку и поняла, что так оно и будет, как она сказала. — Слушай, муж, или давай я понесу этот груз, или на лошадь привяжем… Рр-ры!.. — Что так оно и будет: они зарежут овец и приготовят бастурму, Симон отправится в Овит, а чтобы вернуться, машины не будет, он проторчит возле ящиков с бутылками день-другой, потом взвалит всё на себя (потому что лошадь будет отдана другому) и, ломая рёбра, вспотев до самого копчика, принесёт, согнувшись в три погибели, эти ящики на себе, а гости наедут, всё съедят, всё выпьют, всё перебьют, переломают, пьяными голосами песни затянут, а потом уедут и снова не станут печатать Армена, поскольку Армен упрямый и трудный в общении. — Нет, никаких овец! Арташес Арзуманян своим умом дошёл до всего. Из села Ванкер до Москвы добрался, всему миру известен стал. Ох, господи, и никакой ведь разницы между дочерью и сыном: дочери восемнадцать стукнуло — замуж выходит, и с этой минуты она мужняя, сыну восемнадцать стало — отдавай его жизни, пусть идёт своё место ищет в ней. И всё. Его слава не моя, его удача — тоже.
Возле часовни она понизила голос, заговорила шёпотом, и было непонятно, молитву она про себя шепчет или же ругается с воображаемыми редакторами сына. Сын и дочь всегда смеялись над её молитвами, потому что дома она спорила, кричала и любила поносить господа и обвинять его в несправедливости.
— Молиться надумала? — улыбнулся Симон.
Она поднялась, дошла до дверей часовни, наспех перецеловала несколько хачкаров, перекрестилась и вернулась.
— Чтобы помочь — такую силу немногие имеют, но помешать кто только не может. Не знаю. После ванкеровского Сурб Саргиса11 вряд ли стоит принимать во внимание эту игрушку, но кто знает, может, и стоит. Твоя мать вон с того места, где я сказала, босиком, как лунатик, шла, шла, шла, возле того куста опускалась на колени, опускалась на колени и всю землю кругом вылизывала, круги совершала: три круга — «за моего Адама», три круга — «за моего Симона», три — за Акопа. А скотина в хлеву голодная, непоеная, в грязи утопает. Вот так. Однажды, пока она тут поклоны била, её корова отелилась и телёнка затоптала.
— А ты разве не молилась? — обиделся Симон.
— А как же, ваша мать Арус считала, что я должна бросить горящих в ветрянке детей и прийти к этой цмакутовской развалине, чтобы молитву к богу обратить. У Армена глаза слипались, двадцать дней не мог ребёнок разомкнуть глаз, а у меня мешок зерна был, и ваша паршивая цмакутовская мельница не работала, речка замёрзла. Я бегом в Гамер — то же самое. Отправилась я, Симон-джан, на дарпасовскую мельницу, а дома за ребятами присматривать оставила Парандзем, а она вздумала варить картошку и забылась, вода вся выкипела, картошка сгорела, в доме чад поднялся, и печка стала дымить. И дети сказали Парандзем — уходи из нашего дома, а она обиделась и ушла. На запах горелой картошки ворвалась в дом свинья, дом полон дыма, дети нервные, злые, лежат в постелях, глаз не могут разодрать, печку водой залило, Армен встал, прогнал свинью, а свинья голодная — обратно в дом лезет. Только ребёнок ляжет — свинья снова в доме. Целый день ребёнок со слипающимися глазами воевал со свиньёй. Я пришла, Симон-джан, а мой озверевший Армен с топором в руках сидит у порога, свинью поджидает, чтобы ударить топором, семилетний-то ребёнок…
Агун всплакнула было, потом утёрла слёзы и сказала брезгливо:
— Мужчина ты или нет, быстрей иди!.. Как же, молиться я должна была в этом цмакутовском курятнике. Хотя ваша мать Арус молилась и всех вас троих живыми и невредимыми с войны вернула, теперь в селе говорят — «муж Агун», «муж Манэ», «муж твой за твоей спиной, как крепость, стоит».
— Прошу тебя, очень прошу тебя, — взмолился Симон, — будь человеком, замолчи, ради Христа.
— «Муж»! Никто не понимает, что не муж это — молот над головой.
— Ну спасибо, спасибо тебе, — Симон отстал и сплюнул с отвращением.
Агун, не обращая на него внимания, быстро шагала и продолжала говорить:
— С него штаны спадают, особый человек нужен, чтобы штаны ему поддерживать, а они — «муж у тебя есть», «волы в одной упряжке жалеют друг друга». Жалеешь ты меня, как же, пятнадцать лет как ванкеровскому Сурб Саргису жертва обещана, дождусь я когда-нибудь, чтобы ты сам с места сдвинулся?.. В санаторий его отправь, в санаторий отправь, чтобы он выздоровел и с новыми силами замолотил по моей голове. Отправь в санаторий, а для чего, спрашивается? Чтобы он спустя неделю сел пировать с шлюхой Соной.
— Иди дальше сама, я возвращаюсь, — Симон сплюнул и повернул обратно.
— Возвращайся. Ступай к тем, кто яичко тебе всмятку сварит, ступай котлетами угощайся.
— Агуник, смотри догоню, кости тебе переломаю.
— Давай-давай.
— Тьфу! — Симон, гремя сапогами, зашагал к селу и опять был очень похож на асоренцовского Мацака, потому что козырёк у шапки снова сбился на ухо. А на сердце Агуник в эту минуту капнула горько-сладкая капля желчи: Агун почувствовала её прикосновение к сердцу.
«И-и-и… Чтоб тебя…» — захотела выругаться Агун, но слова все куда-то запропастились, и она сказала себе, что не надо, что расстраиваться не надо, что дорога предстоит трудная. Агун улыбнулась и пошла за лошадью, чей груз был привязан крепко и по всем правилам, так, словно не мужчины этого рода увязывали его.
С вершины холма Агун оглянулась — Симон сидел на камне, и словно не Симон это был, а Асоренц Мацак, потому что одежда на нём была серая и старая и шапка на голове сидела так, как носит её Мацак. Надо будет купить ему шапку без козырька, чтобы, как ни надел, правильно было. И тогда она, Агун, меньше будет раздражаться.
— Ну что, не идёшь, значит? — засмеялась Агун.
Симон поглядел на неё и отвернулся. Но казалось, он всё ещё смотрит на Агун, потому что козырёк был обращён в её сторону.
— Ну будет тебе сидеть, вставай же, — позвала Агун. — Для тебя авторучку из города привезу.
— Очень тебя прошу, убирайся! Чтоб глаза мои тебя больше не видели!
— А кто же ваших коров доить будет?
Симон скользнул по ней взглядом и снова отвернулся.
— Хватит сидеть, иди. Иди, угощу тебя яичницей с мёдом. И водку поставлю, иди, — позвала Агун. — Чтоб выпил и взбесился, — прошептала Агун.
— Пошла вон! — закричал Симон и, казалось, даже вскочил с места, но он по-прежнему сидел, и не было видно, что он делает, потому что одежда его и камень сливались, были одного цвета.
— «Гха-гха-гха», слова по-человечески сказать не могут. — Агун погнала лошадь и подумала, что надо будет припрятать рублей двадцать пять — тридцать, купить Симону новый пиджак и брюки. Не очень дорогие и не очень дешёвые, так, чтобы для села подходящие были. Всё село в костюмах расхаживает, а Симон свои тряпки пятый год уже донашивает. Совесть тоже надо поиметь. А если про санаторий серьёзно говорить, а не так просто, к слову, значит, надо будет купить костюм в пределах ста рублей. Бесстыжий грабитель Валод в платяном шкафу восемь разных костюмов развесил и похваляется: — Этот летний, этот зимний, это на осень, нравится тебе, сестрёнка? — А у Симона единственная пара туфель с 1936 года сохнет, она смазывает их маслом, смазывает — так он их ни разу ещё и не надевал. — Что мне надо от этого несчастного, что, — задыхаясь, прошептала Агун. — Что может, то и делает… Что же я ещё хочу от бедняги…
Возле зарослей чёрного граба Агун оглянулась — Симон шёл вдоль балки, и ноги у него были неверные, спотыкающиеся, казалось, дорога уходит у него из-под ног.
— Всю жизнь над мурадовскими сыновьями издевались, чтобы в конце жизни по-ихнему шагать. Моё счастье, видно, такое.
От амбоевской мельницы Агун оглянулась — Симон шёл быстро-быстро, быстро поднимался, быстро опускался — быстро шёл человек, ничего не скажешь, но только никак не мог догнать её. Агун остановила лошадь и позвала:
— Ладно, не калечь себя, тише иди. Ереван от нас не убежит… Уж так деловито идёт, так торопится, словно на грабёж собрался… А ну-ка быстрее, ну-ка бегом! — взвизгнула Агун.
Симон пробежал по инерции ещё несколько шагов, потом пошёл медленнее, потом остановился. Остановился и замер неподвижно, как дерево, которое уже срублено под корень, но ещё секунду-другую держится прямо, перед тем как упасть. Мозг его разгорячился, и всё в голове смешалось, а от сердца и до самого рта стало невозможно горько. Симон захотел выругать жену и того, кто её породил, но не смог.
— Глупая, глупая голова, — прошептал Симон, — дурья башка, точно говорю. — Ведь Агун говорит, что он и весь его род словечка по-человечески сказать не могут. Так оно и есть.
— Лошадь в Гамере оставлю… если кто попадётся из наших, отдам ему, если никого не будет — оставлю в Гамере, оставлю в Гамере… слышишь! — громко сказала Агун. — Ты устал, сядь отдохни немножко, потом потихоньку придёшь, потихоньку… слышишь, — среди ясного осеннего дня звонко и отчётливо прозвучал голос ванкеровской Агун. — Груз ладно приделали, спасибочки! Я пошла! — И стегнула лошадь, и скрылась с глаз.
Только через несколько минут Симон смог выругаться, обложить наконец и её, и того, кто её породил, выругать злую нещадную её стервозность и собственную глупую добросердечность, а заодно и сына Арменака, и вообще, и вообще — всё в мире.
Агун с детьми была в горах — в магазине давали сахар. Симон из пекарни взял штук шесть хлебов и встал в очередь за сахаром, чтобы отослать с подводой, которая собиралась на летнее стойбище, вот-вот отъехать должна была. Ребята в магазине рассказывали про то, какую шутку сыграл Асоренц Мацак в Кировакане. Асоренц Мацак в Кировакане спросил у продавщицы, эти женские брюки почём, мол. Та-де: пятнадцать рублей, а Мацак ей — что, мол, пустые?
Сахару давали по три килограмма, но Симон пристал к Арто, и Арто смотрит — Симон это.
— Это мастер наш, — обратился он к очереди, — возражений не будет побольше дать?
Очередь сказала: выдай ему, можно, он заслужил. Пять кило сахару и хлеб Симон отправил с подводой Агун; потом вечер был, кино показывали, библиотекарша, толстая Оля, продавала билеты. Кто без билета смотрел, отмечала у себя в тетрадке, чтобы потом, как полагается, вычесть из заработка данного безбилетного. Проходя мимо Оли, Симон не удержался, сказал, как всегда, обычное своё:
— Ахчи, ты что это, всё ещё того, беременная, уж не двойню ли собираешься родить?
И народ посмеялся вдоволь. После этого все, кто входил, говорили: «Оля, ахчи, ты ещё беременная, когда же ты у нас разродишься?», «Сколько месяцев уже, ахчи?»
Но Оля вовсе и не беременная была, а так, пузо у неё и задница здоровенные наличествовали. Сейчас она в Кировакан перебралась с семьёй и, говорят, ещё пуще прежнего раздобрела. В конце концов Оля не выдержала, расплакалась. А когда уселась рядом с Симоном, чтобы тоже посмотреть кино со всеми вместе, Симон обнял её за плечи и сказал, что пошутил, что от шутки не плачут. Это, в свою очередь, стало поводом для смеха, все как загалдят: «Симон обнял Олю, Симон с Олей договорился!..»
Кино кончилось. Тёмная и тёплая ночь была, как постель. Народ расходился по домам, женский голос позвал в темноте:
— Кто есть с верхнего края? Эй, Симон, домой не идёшь?
Симон подошёл; совсем вплотную подошёл — Сона была.
— Ты, Симон? И напугал же.
Пошли, рядом ничьих шагов не слыхать.
— Ахчи, одна ты, значит?
— А что?
— А дети твои где же?
— Большой ягнят пасёт, — сказала, — средний из училища ещё не приехал, младшего в Цатер к брату гостить отправила.
— Так и скажи, что порожняя осталась, — засмеялся Симон.
Сона смеяться не стала, Сона коснулась Симона в темноте и тихо и глухо проговорила:
— Я тебе не библиотекарша Оля, понял?
В ущелье возле кладбища сказала:
— Боюсь, — и взяла Симона под руку, и мягкими грудями или ещё чем коснулась Симона, и на секунду согрела его.
— Я рядом, чего боишься?
— Тише говори, — шёпотом сказала Сона, и Симон не смог больше проговорить ни слова.
Словом, той ночью Симон домой не пошёл. А на заре поднялся с петухами, оделся быстро и собрался дать дёру. Сона спала в чём мать родила, на одеяле, смуглая в утренних потёмках. «Да она это, шлюха», — подумал Симон, хотел снова раздеться, но уже светало. Симон пошёл, покрутился возле своих дверей, ногой изменил направление ручейка, подумал было взять лопату, полить картофель — Агун бы очень довольная осталась, — но так и заснул возле ручья. Он проснулся и услышал, как кто-то, еле сдерживаясь, заливается, смеётся совсем близко. Симон открыл глаза, солнце на секунду ослепило его — рядом сидела Сона и травинкой щекотала ему шею. Одежда на нём нагрелась, прямо раскалилась от солнца. Он сел рывком, голова слегка кружилась. Сона беззвучно смеялась рядом, и её грудь трепыхалась со смехом вместе. «Да она шлюха, точно». Симон опрокинул её и погрузился в солнце и головокружение.
— Ну-ну-ну-ну, совесть поимей! На работу! — совсем рядом раздался голос Смбата, председателем тогда Смбат был. — Время полдень уже, а вы по домам отсиживаетесь, ай-яй-яй-яй…
— Иду, иду, — ответил голос Парандзем, — уже выходила, вот прямо сейчас выходила…
Смбат стоял на холме Мураденц и смотрел по сторонам, и они долго-долго пробыли так в зарослях лоби, потому что находились прямо против холма Мураденц, и, если бы пошевелились, Смбат непременно бы увидел их, как на ладошке увидел бы. С лёгким постаныванием грядка лоби всасывала воду, картофель зацветал под солнцем, мелкие яблоки пребывали молча среди листвы; ласточка лепила гнездо под карнизом Симонова дома, ласточка щебетала и парила, иногда пролетала совсем низко, почти касалась их, потом разом взмывала, резко ломала полёт; постепенно темнел от скользящих облаков лес, потом медленно от них высвобождался, светлел, прямо-таки улыбался, как ребёнок, в лазури плавал ястреб, и стоило жить очень долго в этом зелёном мире и даже умереть стоило и быть захороненным среди этого зелёного покоя.
— Ну ладно, жарко, задохнулась совсем…
— Не поспеешь за Парандзем уже всё равно.
— Плевать.
Сона согнала курицу с гнезда, принесла яйца, разожгла огонь, достала масла из кувшина и похвалила Агун за то, что на улице июнь, а у Агун ещё прошлогоднее масло сохранилось. Слабую, нежную яичницу приготовила и хлеб подогрела. В погребе вдруг мёд в бутылке нашла, принесла, закрепила яичницу — полила мёдом. И села перед Симоном и на две капельки поплакала:
— Жены твоей боюсь.
— Бока у тебя потолще, чем у неё, чего бояться.
— Муж-то ты её… а я, как собака по чужим дворам, виноватая…
— Ну так и не делала бы такого худа, не была бы виноватая…
— А что твоя жена каждый день делает это, ничего это, по справедливости?
Она сказала, что ещё до войны доски для пола нарублены были, до сих пор на крыше сарая лежат, а в доме земляной пол, и что тут особенного — всего на две недели работы, если по утрам и вечерам работать. И сказанное ею тяжестью легло на сердце Симона. Что же это, весь мир, значит, на расчёте держится? Время и без того летнее, рабочее, ночи короткие, а ты тесаком всю ночь теши-стучи?! А стук тот, чтоб ещё в горы до Агун дошёл, а Агун тут же и прикинь, и рассчитай, и счёт предъяви, а ты битый час толкуй ей — так и так, мол, Арто не восемьсот должен был заплатить, а шестьсот, Мушег, в свою очередь, тысячу сто. Хорошо ещё, Агун в математике слаба, не очень кумекает, а то он вон с каких времён ещё должен был Матевосу из Дсеха пятьсот рублей, только удалось — взял у Арто, переправил в Дсех с одним дсехцем, имени не знает.
— Нет, Сона, ничего не выйдет.
— А я возьму и позову Симона-маленького.
— Мне что. Зови.
Вечером Симон шёл на село. Сона с шумом выволакивала и сбрасывала с крыши сарая доски и громко так спросила, когда он поравнялся с домом:
— Ну как, мастер, завтра начинаешь работу?
С поля возвращались косари. «Или она окончательно шлюха?» — подумал Симон. На ближнем огороде трудилось семейство Ато.
— Начинаю, да! Хочешь, хоть с сегодняшней ночи и начну, — ехидно и с иным смыслом сказал Симон.
— Время летнее, когда же ещё, как не ночью.
Симон присел у дороги, подождал, пока пройдёт бригада косарей, чтобы как следует проучить эту шлюху. А Сона стояла, уперев руки в бока, и тихонечко посмеивалась исподтишка. Но когда Симон пошёл к ней, она опустила руки, и, когда он совсем вплотную подошёл, она смотрела на него на манер обиженной девочки. Она оставила Симона стоять на дороге, сама пошла, встала в дверях, Симон подошёл к дверям, она вошла в дом. Вошла в дом и пустила слезу, заплакала как актриса: «Виновата я, если муж твоей жены вернулся с войны, а мой нет?» И вообще так получилось: Симон на село не пошёл больше, Симон оттащил доски к дому и сколотил козлы, а потом обстругал, обтесал половину досок, а в полночь пошёл заночевать в доме. Утром на столе жареный цыплёнок был, Симон поел и пошёл на работу. К вечеру начался дождь, да так и не перестал. Весь вымокший, с ноющими ногами, Симон шёл домой. Сона отвела его к себе, раздела донага, так голого и уложила в постель, потому что мужской смены белья большого размера в доме не было. Его уложила, а сама выстирала, высушила и выгладила Симонову одежду. Дождь лил три дня, и хоть это и было плохо для пчелы, да и для урожая, но, вообще-то, было хорошо, потому что Симон одним только был занят. Дождь с маху шлёпался о лес, в овраге слышался шум большой воды, весь мир был каким-то глухим и мягким. Симон под сухим навесом строгал, резал, размечал доски. А Сона садилась на низкий стульчик и иногда смеялась, чаще плакала, потому что погода такая на душу давила, но ещё больше потому, что, если бы не война, был бы у Соны свой собственный муж. В эти дни два раза было на обед мясо: один раз меньшой Соны привёз из Цатера — брат сестре гостинец прислал, — и ещё когда красный бык в распутицу поскользнулся и упал с камня-известняка. Когда дожди кончились, приехал из училища средний сын Соны, и было стыдно, потому что ему уже лет шестнадцать, а может, и все семнадцать было, и вроде бы он всё понял. И наверное, потому он через два дня уехал обратно, будто бы к друзьям в город. На самом же деле в Кировакане у него девушка была, к ней поехал. А там родители девушки и женили его на своей дочери, одну из своих комнат молодым выделили и на работу зятя быстренько определили. А младший Соны, который отца в глаза не видел — в люльке был, когда того в армию взяли, — этот, как щеночек, ластился к Симону, целый день за ним тенью ходил. Симон с Соной говорили, что у ребёнка к ремеслу любовь, но не любовь к ремеслу была — тоска по отцу, он и сейчас, когда приезжает из Грозного, спрашивает, случается, простодушно у Симона: «Как живёшь, отец? А помнишь, как ты нам полы настилал… Моя бедная мать ещё жива была… Помнишь, отец?» В эти дни, когда пол ещё не весь был застлан, принесли весть с гор, что Агун разругалась с пастухами, крыла их самыми непотребными словами, и причиной тому был нервный пёс Симона, который не пришёлся по вкусу пастухам, и те натравили на несчастного псину все тридцать волкодавов фермы. А также рассуждение поступило насчёт того, что лучше будет ему, Симону, не появляться больше в собственном доме. И вообще правильно поступили братья Егор и Амаяк, вышвырнув после войны своих жён и приведя в дом по новой, слава богу, не так уж трудно вырастить безотцовщину — вон, пожалуйста, Грачик, сын Егора от брошенной жены Сируш, обтёсывает камень туф в Кировакане, а после работы надевает белую рубашку и чёрные блестящие туфли. И вообще счастье человека в покое и мире, в уважении и любви друг к другу, чего никогда не было в их семье, в этой ихней дыре под скалою, пропади она пропадом.
Ребята вроде учуяли что-то. В поле Егор, смеясь, сказал:
— Эй, Симон, с чего бы это похорошёл ты у нас, может, в санатории какой побывал?
Симон смутился, но тоже посмеялся и ответил как подобало:
— А ты как думал?
Женщины, те быстро сообразили. Сварливая Шушан шла по дороге с родника, увидела мужчин, остановилась.
— Чьё сердце горит?! — крикнула она, и всегда стеснительная Маро откликнулась:
— У влюблённых сердце горит!
И сварливая, горластая Шушан с кружкой в руках приблизилась к Симону, подала ему воды и прямо подыхала со смеху, так смеялась.
— Ну что, что пасть разинула! — разозлился Симон, а она продолжала смеяться, остановиться не могла.
Потом на женщин охота петь напала, они возвращались с поля и пели:
Они садились передохнуть и пели:
Они поднимались не спеша, останавливались и пели:
И винить их нельзя было, потому что все они были безмужние и одинокие женщины: муж Шушан — Андрэ — погиб в Праге, мароевский Ашот сбежал с призывного пункта, его поймали и расстреляли в манацовском овраге в 1942-м, но большей частью мужчины пропали в войну без вести, и женщины представляли: может, сейчас в далёкой стране Америке, нацепив галстук, они тоскуют по своим оставленным в деревне Цмакут жёнам… Да. Но Симон-то знал, что все без вести пропавшие из их деревни дрались и убиты, наверное, где-нибудь возле Керчи… Когда убирали картофель, Агун вознамерилась отколошматить Сону, но сварливая Шушан с заступом наготове поспешила той на помощь:
— Ты, ахчи… когда наши против Гитлера пошли, не для нас одних погибли, и что ваши вернулись живые-невредимые, тоже не для вас одних вернулись, знаешь — нет?! — И как ни крути тут, как ни прикидывай, а была права она.
Агун подала жалобу в сельсовет и в то же время притихла. Покрепче утвердилась в этой ихней дыре под скалою, будь она неладна, проклятая. Агун в ней укрепилась, чтобы потом насесть с новой силой, зло и исступленно:
— Всего села муж!.. Общий!.. Всех убили, все погибли, Симон геройски не погиб — Симон вернулся село ублажать!..
Потом было вот что.
— Иди, всехний муж, — сказала Агун, — умерла твоя, поди в доски её одень.
И слава богу, слава богу, что из Кировакана её в гробу привезли, и вообще лучше было на похороны не идти, потому что Агун не посовестилась бы, учинила бы что-нибудь… А гроб так и так ему бы пришлось сделать — Симон-маленький проваливается как сквозь землю в таких случаях, потому что нельзя ведь гроб за деньги делать.
Из колхоза собирались в Касах, двадцать поклаж ячменя надо было оттуда привезти. Симон молча присоединился к отъезжающим и отсутствовал три дня. Лошади были дохлятины все, в горах ещё снег держался, дорога через ущелье вязкая была, и ветер дурака валял, а погонщиков вместе с Симоном пять человек было, на двадцать-то лошадей. Словом, намучились порядком. Ночь на половине была, они поставили лошадей в конюшню, мешки с ячменём оттащили под навес и разошлись по домам. Село спало под большой красной луной. И хотя запахи были весенние, но было холодно, и грязь хрустела, замёрзшая; подснежники выставили рожки, глядели козлятами; собака храпела где-то близко. Кладбище смотрело остро и молчаливо. Симон не дошёл до кладбища, постоял тут, — захороненные, тут лежали убитый молнией Егиш, дед Ованес, брат отца Овсеп, дядья Есаи, Асатур, Акоп.
— Всем нам место здесь, — проговорил Симон и пошёл дальше. — И лучше вам, чем нам, извиняюсь, конечно, плохое сказал…
Здесь похоронены были Сато, Шогер, тётушка Манишак, Азат, Аршак, Несо, несоевский Аршак — все. А над всеми был камень с именем и фамилией, а на камне Аршака соха и ружьё ещё вдобавок были высечены — жил, мол, на свете землепашец и охотник, хотя в жизни ни землепашцем он не был, ни охотником приличным. А сорок восемь молодых мужчин, те остались где-то там, далеко, безмогильными. Смерть не страшна, потому что уносит тех, кто рядом с тобою, а сам ты бессмертен. Жаль только, что работающих людей становится меньше, а работы не убавляется.
У дома Соны Симон свернул с тропинки, пошёл и остановился растерянно возле сарая, откуда Сона сбрасывала доски для пола. Нагая, в чём мать родила, Сона спала поверх одеяла и была смуглая в утренней полутьме. И почему белый свет такой бессмысленный, непонятный и грязный!
Симон как пригвождённый стоял возле дома Соны. Было холодно и одиноко, и не было на свете ни одного притягивающего уголка, поскольку он хотел только Сону, а Сона была мертва и засыпана землёй, а дом под скалой был груб и враждебен Симону.
«Сона…» — промычал Симон про себя, потому что, если бы он громко закричал, соседи бы проснулись, собаки бы залаяли, пришла бы Агун и заклокотала в своей тошнотворной, опостылевшей ярости.
Агун добралась до Гамера и сидела ждала Симона — она сидела на камне и плакала, потому что жалела лошадь, а разгрузить её сама не могла. Она только расслабила в нескольких местах верёвки, а в одном месте верёвка запуталась, и она сидела рядом с лошадью и плакала.
— Говорил ведь, что не под силу тебе такой груз!..
— Будто бы сам очень крепкий… Уж ты-то непременно бы вернулся больным, — заплакала Агун.
— Если я заболею — за мной есть кому следить, а вот тебе не приведи бог заболеть, все пропадём. И, Агуник… Скажи ему, пусть не торопится с загсом, пусть повременит. Слышишь?
На дороге где-то возле Овита загромыхало грузовое такси с приглушённым мотором, потом скрылось за поворотом, коротко прогудело и затихло.
— Да на что нам всё это… И копейки не увидим от его тысяч, и имя прославится его — не наше, и невестка, хорошая ли будет, плохая ли — всё равно чужой нам останется. Отдали городу — конченное дело. Как с дочкой получилось? То же самое с сыном будет.
— Хватит глупости болтать. Надоела.
— Увидишь.
— То есть хочешь сказать, что моя доля такая, невезучая?
— Никому на этом свете не сладко.
— Мне так особенно. Я шофёру сказал, чтобы он место тебе рядом с собой придержал, груз в кузове устроим, сама с шофёром поедешь, спокойнее будет.
— Ну да… Умник какой… Груз наверху положу, сама в кабину сяду, а овитовские дурни на моём грузе разлягутся, мягкое местечко себе найдут.
В машине под брезентовым верхом набилось народу видимо-невидимо. Водитель вышел из своей кабины, чтобы помочь Симону, и сказал Агун:
— Ты рядом со мной садись, тикин12 Агун.
Она проследила, чтобы груз осторожнее уложили и подумала мимоходом, что внимание такое либо из уважения к имени Армена, либо из-за брата Валода, а то кто бы стал обращать внимание на этого несчастного плотника. Под конец она сама без чьей-либо помощи забралась в кузов.
— Спасибо, сынок, запах бензина очень на меня действует, здесь мне лучше будет.
— Скажешь ему всё, поняла? — сказал Симон.
— Что?
— То, что я тебе сказал.
— Да что, что?
С выключенным мотором машина скатилась в овраг, погромыхала-погромыхала, попятилась и поползла вверх — Симон стоял рядом с лошадью и, подняв руку, то ли глядел, то ли говорил что.
Арнаут — обжора.
Маран — особый погреб для хранения фруктов и вина.
Апи — дед.
Яху — средство народной медицины, применяемое при ушибах и переломах.
Мутака — матрас, тюфяк.
Нани — мать, матушка.
Стихотворение Ованеса Туманяна «Конец зла». Перевод с армянского В. Звягинцевой.
Стихотворение Ованеса Туманяна «Взятие крепости Тмук». Перевод с армянского П. Карпа.
Стихотворение Ованеса Туманяна «Парвана». Перевод с армянского К. Симонова.
Стихотворение Ованеса Туманяна «Родник». Перевод с армянского А. Наймана.
Сурб Саргис — святой Саргис. Здесь имеется в виду церковь под таким названием.
Тикин — уважительное обращение к замужней женщине.
| Жанр: | Советская классическая проза |
| Серии: | - |
| Всего страниц: | 31 |
| ISBN: | - |
| Год издания: | Не установлен |
| Формат: | Полный |