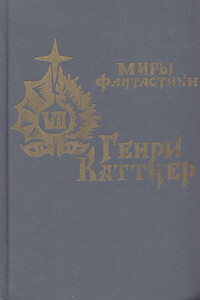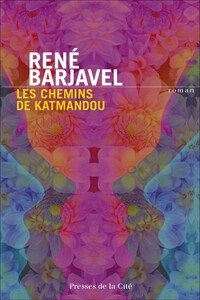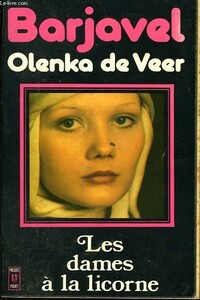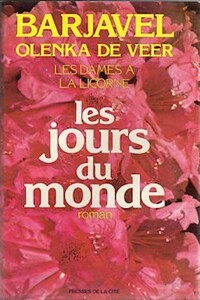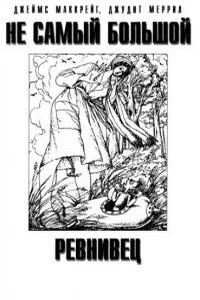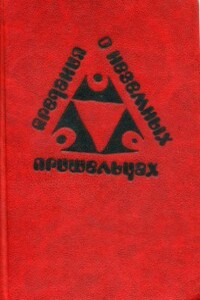Когда лесоруб и его жена исчерпали все три желания, они почувствовали себя очень несчастными. Круг кровяной колбасы лежал перед ними на утоптанном земляном полу хижины. Потрясённый, лесоруб все ещё чувствовал, как с его носа свисает тяжёлая колбаса. Жена лесоруба тряслась от разочарования и злости. Потом она заплакала. Как много они могли получить — богатство, юность, здоровье (ведь так важно иметь крепкое здоровье!) — вместо этого свинства.
Фея, оставаясь невидимой, сидела на колоде и с жалостью смотрела на них. Она искренне желала им счастья, хотя давно должна была привыкнуть более трезво смотреть на вещи. Эти двое, вместо того чтобы разумно распорядиться желаниями, наделали глупостей, и обида будет теперь терзать их до глубокой старости. Ей было так жаль их! Поэтому она прикоснулась своей голубоватой рукой к их лбам и удалила все воспоминания о произошедшем. Кровяную колбасу она им оставила. Лесоруб и его жена перестали проклинать себя за бестолковость, подобрали невесть откуда взявшуюся снедь и уселись за стол, вознося хвалу Господу.
Фея, забрав обратно три желания, нашла, что они порядком поизносились, и брезгливо отбросила их в сторону. Они упали в заросли крапивы. Фея любила только все новое. У неё на поясе висело ещё много желаний, ни разу не использованных. Наверное, дюжина дюжин дюжин. Гораздо больше, чем она была в состоянии использовать даже за несколько столетий. Потому что эти желания были предназначены только для смертных с простым сердцем и чистой душой.
* * *
Прошло время. Человечество повзрослело и стало более рассудительным и трезвым. Феи исчезали по мере того, как в них переставали верить. Вскоре даже самые маленькие дети начинали весело смеяться, когда при них говорили про Деда Мороза. Они знали, что игрушки покупают в универсаме. Их учителя преподавали им науки. Отцы способствовали прогрессу, закручивая гайки на заводе на протяжении восьми часов кряду. Один-единственный трубадур пел сразу во всех домах для всех женщин. Он разом ухаживал за всеми домохозяйками, которые слушали его, вытирая посуду. И пожилые женщины, и грязнули, и беззубые развалины получали на свою долю столько же признаний в любви, сколько доставалось самым юным и прекрасным девушкам. Для этого достаточно было повернуть небольшую чёрную ручку. Это и был прогресс.
И вот в эти времена в лесу далеко от города жил один парень, которого никак нельзя было назвать красавцем. У него были на редкость огромные ступни, сутулая спина и волосы цвета конопли. Он построил себе хибарку из сухостоя и обрезков досок. Кормился он случайными заработками, оказывая небольшие услуги жившим поблизости крестьянам, лесорубам и угольщикам. Он знал съедобные грибы и умел находить в лесу мелкие кислые плоды, которые презирали садоводы. Свою хижину он делил с птицами, лесными мышами и муравьями. Паутина заменяла ему стекла в окошках. Его маленькие соседи забегали к нему в гости, когда хотели, и не пугались, если он заглядывал к ним в норки или гнезда. Старый хромой кабан приходил поворчать у него под дверью. Лань приводила к нему своих детей, чтобы с гордостью показать, как они выросли. Леший одинаково хорошо относился и к голубю, и к ужу. Весной голубые и золотистые цветы распускались на соломенной крыше его хижины.
В первый месяц каждого времени года он отправлялся в ближайшую деревню к сельскому парикмахеру, и тот проходился машинкой по его голове и щекам.
Однажды он встретил в лавочке двух жандармов, и те отвели его в ближайший городок, в мэрию. Оказалось, что он уже три года, как должен был находиться на военной службе.
В казарме каптенармус извлёк для него из своих запасов пару сапог огромного размера — их уже много лет откладывали в сторону: всучить их никому ещё не удавалось. Его тощее тело утонуло в застиранной выцветшей форме. Ремень брюк доходил едва ли не до подбородка, пилотка съезжала на лоб или на затылок. Старички, которых можно было сразу узнать по небрежному изяществу, с которым они носили военную форму, и по непринуждённому виду, с которым они прогуливались по улицам, постоянно издевались над ним, тем более что у него не было денег, Чтобы поставить им выпивку. Из-за невероятных размеров сапог его и прозвали Мамонтом.
Капралы, сержанты и лейтенанты безуспешно пытались научить его маршировать в ногу. Нет, он не пытался делать все назло начальству, но никак не мог сообразить, чего они хотят и что он должен выполнять. Он много скитался и по лесам, и по разбитым ухабистым дорогам, но никогда ранее не раздумывал при этом, как он шагает и с какой ноги. Он никогда ничего не усложнял.
Утром на плацу солдаты в голубых мундирах маршировали и поворачивались все разом, по команде капралов. Во время перерыва все окружали Мамонта — для него перерыва не было. Постоянно сменявшие друг друга унтера, багровея от злости, орали ему: «Раз! Два! Раз! Два!» Но к тому моменту, когда они произносили слово «Два», Мамонт успевал сделать только полтора шага. Его ноги неуклюже загребали землю и цеплялись за каждый камешек, за малейшую неровность. Руки висели, словно сломанные ветки. Его конечности, которыми он пользовался вот уже двадцать лет, не думая об этом, вели себя так, словно не принадлежали ему.