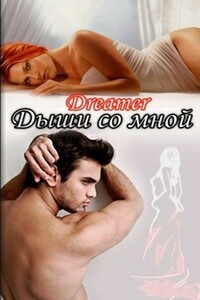Ааль–маа–Маа–йоо, Ааль–маа–Маа–йоо.
Теперь, когда я рассказала Тони о том, что произошло тридцать лет назад, мне снится мама, я слышу ее низкий голос, который зовет нас, мелодично выделяя повторение «ма». Альмамайо — это звуки из моей прежней жизни, счастливой.
Я увидела его, произнесла по слогам «Ма–йо», он всегда был Майо; когда в газетах появилось его настоящее имя, немногие поняли, что тот Марко — мой брат.
Июньский вечер наполнен липовым ароматом.
Майо везет меня на велосипедной раме, крутит педали, почти задевая старые городские стены, нагретые солнцем; я провожу рукой по его губам, а он пытается укусить мои пальцы. И чем больше я хохочу, тем больше он притворяется, что вот–вот упадет, — он просто дразнит меня.
Мы поехали вдвоем на его велосипеде, потому что у моего спустилось колесо. Майо держит руль одной рукой, в другой у него сигарета с дрянной марихуаной, выращенной у дамбы на реке По.
В тот вечер мы посмотрели фильм Антониони и по дороге домой без конца повторяли сцену, в которой герои едут в машине: она спрашивает у него, от чего он убегает. Он отвечает: «Повернись спиной к тому, что впереди».
В ожидании ужина, пока в духовке греется пицца, я курю на балконе, наблюдая за снующими ласточками. Майо выходит из душа в синем халате отца, высовывается в окно — глаза зажмурены, с волос капает, подбородок вверх — и кричит, раскрыв объятия: «От чего ты бежишь, Альма?»
Если фильм нам нравился, мы потом долго повторяли кстати и некстати полюбившиеся фразы.
На булыжной мостовой велосипедная рама врезается мне в задницу, а Майо специально едет по всем выбоинам, чтобы меня позлить.
— Ха–ха–ха, мои новые джинсы как подуха–ааа, — напеваю я.
— Толстуха, толстуха, будет сейчас тебе подуха, — в тон отвечает он мне.
Майо с меня ростом и очень худой. Еще три года назад мы менялись с ним одеждой, потом у меня выросла грудь и раздались бедра. Отец был рад, что я наконец–то созрела: моя гормональная задержка вызывала у него серьезные опасения.
Он всегда в мельчайших подробностях предрекал разные беды, болезни, финансовые кризисы, провалы и поражения, вплоть до бытовых неурядиц: рестораны закрыты, билеты проданы, парковки заняты. Можно сказать, жил в ожидании неизбежной катастрофы. Предусмотрел все возможные несчастья, страдания и боль, кроме той, которая нас раздавила.
Родители уехали в деревню, а мы остались ждать табель успеваемости, хоть результаты и так были известны: я переведена в следующий класс, Майо получил переэкзаменовку.
Отец не рассердился, он боялся лишь серьезных бед. Мама только пожала плечами: она сразу сказала, что мой лицей — не для Майо. Это я настояла.
Майо был веселый, покладистый, ленивый. Не то что я.
В деревне, перед поездкой в Бухарест, мы собирались позаниматься. Но август, как всегда, хотели провести на море.
Мы наслаждались свободой, вечерами без родителей, радовались началу каникул. Всё было прекрасно.
На привычном месте встреч, у мраморного грифона на площади, нашли только Бенетти. В воскресенье кое–кто из наших уехал на море и еще не вернулся. Вот–вот должна была приехать Микела, прожаренная солнцем, блестящая от крема, и мы пошли бы пить пиво к Маго. Закат в тот вечер тянулся бесконечно.
Мне было семнадцать, тогда я не понимала, как мы счастливы.
Переворачиваюсь на спину. Левый бок — спина — правый бок, последние два месяца только так и сплю. Живот круглый, как мяч, я поправилась на пять кило. В самый раз, — говорит мой гинеколог. Маловато, — считает Лео.
Лео спит на животе, счастливчик, рука свешивается с постели. Снова переворачиваюсь на бок и пристально смотрю на Лео, вдруг он проснется: в понедельник я уезжаю, а он еще ничего не знает, нужно срочно поговорить с ним. Тихонько дую ему на щеку.
— Ммм… Ты чего?
— Привет, доброе утро.
— Доброе… который час? — бормочет спросонья.
— Девять пробило.
— Так рано! Будь умницей, Тони, — причитает, отворачиваясь и натягивая на голову простыню.
Отсыпается он только в субботу, потому что в воскресенье всегда что–то случается: ночные субботние ограбления, приезжие футбольные фанаты, даже убийства происходят чаще на рассвете воскресенья. В другие дни он встает в семь, намного раньше меня.
— Мне нужно с тобой поговорить.
Медленно, как черепаха из панциря, он вытягивает голову из–под простыни. Поднимает одно веко. Глаз, совершенно ясный, уставился на меня.
— Что–то случилось?
— В понедельник я еду в Феррару на несколько дней.
— В Феррару? Зачем? — теперь открыты оба глаза. Щурится, как от яркого света, и пристально смотрит на меня снизу вверх. Нависаю над его подушкой, опершись на локоть, волосы щекочут ему нос, а он не шевелится, замер, как кот, внезапно ослепленный светом фар — шерсть дыбом, уши прижаты.
— Я должна расследовать кое–что семейное.