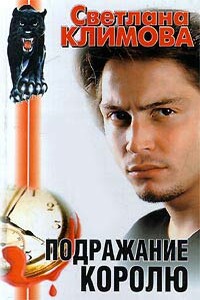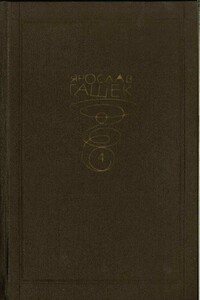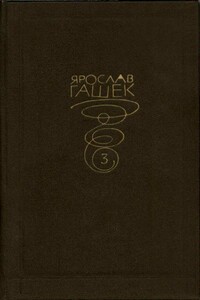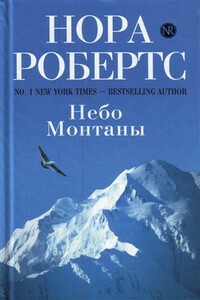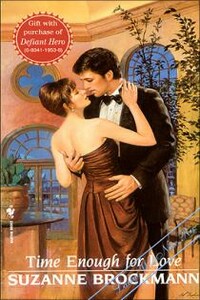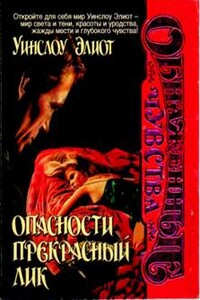Самым страшным воспоминанием детства был для мальчика день, когда мама, приведя его из школы, толкнула незапертую входную дверь квартиры, безмолвной, словно глубокая пещера, и удивленно-нетерпеливой скороговоркой произнесла:
— Иди сними пальто, я забыла купить хлеба…
Дверь захлопнулась, и он остался один в доме. Тишина мальчика не пугала, он привык к ней за семь лет своей одинокой жизни; позже, когда у него родилась сестра, он догадался, что на детей вообще никто не обращает внимания — взрослая жизнь бурно плещется сама по себе, а ты, будто в шапке-невидимке, сидишь и наблюдаешь за ней.
Ему ничего больше не оставалось, как привычно забиться в угол короткого диванчика (он спал на нем в комнате бабушки Марии Владимировны), так и не сняв школьной курточки, ботинок, пальто и синего берета. Ранец он опустил на пол.
Еще не наступило время обеда, но в их полуподвальной квартире словно застыли вечные сумерки — свет тут должен был гореть с утра до вечера. Когда входная дверь, тяжело скрипнув, открылась, он замер от неожиданности и почувствовал, как сердце его застучало быстрее. Но это была не мама.
В комнату, натыкаясь на стулья, вошла бабушка Маша и как была, в плаще и зеленой потертой шляпке, издав горлом хриплый короткий волчий вой, повалилась — обутая — на постель.
До ее железной высокой кровати лежал, наверное, километр страха, но мальчик все-таки преодолел этот путь, потому что то, к чему он осторожно приближался, напугало его до бесстрашия.
Он подошел к кровати и пересохшим маленьким ртом громко сказал:
— Сними туфли, Манечка!
А она, встрепенувшись, снова взвыла и прижала его, притянув к своему полному бедру в плаще, пахнущем пыльной улицей, нафталином и хозяйственной сумкой.
— У-у, — всхлипнула она, — принеси мне воды, Ванюша! Мальчик пошел на кухню, которую любил больше всего в доме, налил из кувшина в стакан кипяченой воды и отнес.
— Теперь уйди, — сказала бабушка. — Пожалуйста.
Мальчик с готовностью покинул ее, снял свое пальто, залитое водой, потому что, пока он нес до краев полный стакан, руки его дрожали и часть содержимого выплеснулась на живот. Поверх пальто он повесил берет, под ними поставил ботинки и в одних носках вернулся в комнату. Бабушка неподвижно лежала на спине, по-прежнему в плаще. Крепкие ноги ее в простых темных чулках, обутые в старые туфли, напоминали две выброшенные пустые бутылки — на бледно-розовом, вчера только отглаженном марселевом покрывале.
Он замер в своем углу на диванчике.
Тихо было до невозможности. Мальчик боялся даже глубоко дышать. Но не из страха, который исчез без следа, а скорее по привычке, образовавшейся в те долгие времена, когда они жили вдвоем, никогда вечерами не мешать Манечке засыпать. Ибо засыпала она трудно, и одним из условий их совместного существования было — не мешать уснуть. Еще она задыхалась при быстрой ходьбе, поэтому он усвоил, что не нужно прыгать, бегать и спешить куда-либо. А громко говорить или смеяться мальчик как-то не привык, потому что при любом резком звуке бабушка обмирала и бледнела.
Он хотел шепотом крикнуть матери, вошедшей бесшумной своей легкой походкой в комнату: «Не буди, Маня заснула…», но не успел, так как она уже стояла у кровати.
— Что происходит, мама? Почему ты лежишь в постели одетая?
— Я умираю, — сказала Манечка совершенно отчетливо. — И мне страшно…
— Что за глупости? — Низкий голос молодой женщины прозвучал слегка раздраженно. — Опять эта твоя мнительность! Сними плащ, вставай, пора обедать.
Манечка издала каркающий смешок.
— Дай руку, — сказала она, — сейчас расстегну… Не дергайся, Полина, я не чумная. Все так просто — врач мне показал еще в прошлый раз. Вот здесь — пробуй, не бойся — опухоль величиной с орех. А-а, в том-то и дело… И уже все поздно…
— Нет, — сказала мама, и мальчик содрогнулся глубине отчаяния, прозвучавшего в этом коротком слове. — Нет. Нет. Нет. Мы поедем в Москву, нам поможет Валентин Александрович.
— Никто мне уже не поможет, — возразила Манечка так тихо, что мальчик едва расслышал ее в своем углу. А то, что громко и отчетливо она произнесла затем, он так и не понял тогда:
— Живешь, мучаешься, надеешься, и в один миг — ничего нет…
Бабушка умерла весной, но к тому времени в доме уже жил отец мальчика.
Появление этого человека несколько озадачило Ивана, потому что со словом «отец» он вначале связал другого мужчину, который посетил их подвал в январе, когда у мальчика были первые каникулы и к Новому году Маня испекла последние в своей жизни пироги.
Он, по обыкновению, сидел, поджав ноги в цветных шерстяных носках, на своем диванчике, а на улице мело и слегка завывало. Бабушка жила теперь в маминой комнате в конце узкого и высокого коридора, а здесь, в их комнате побольше, прямо напротив кухни, ничего не изменилось, кроме места для сна. Маня переехала вместе со своей периной, выкрашенной масляной краской кроватью с черными шарами, потертым ковром и тремя подушками, ею же набитыми пером, а мама перетащила сюда свой жесткий и холодный диван.
Он хорошо помнил, как увидел на кухне зарезанных кур, которых привезла из деревни в мешке Мария Владимировна. Ему было года три, и он с бесстрашным любопытством глядел на их уродливо свернутые щей и подернутые фиолетовой пленкой глаза на маленьких головках. Маня сидела на полу, на расстеленном брезентовом полотнище, и ловкими быстрыми пальцами ощипывала неживых птиц. В большой чугунной ванне, стоявшей у дальней стены, росла горка бледно-серого, пахнущего теплым пометом куриного пера. Пух слегка разлетался от дыхания Манечки, и позже его можно было обнаружить прилипшим к шершавым кирпичам, на которых стояла ванна… Мальчик, брезгливо относившийся к чужеродным запахам, так и не пересек порога кухни, где, напевая под нос и задыхаясь от пуха, ворожила бабушка. Рядом с ним, с ужасом глядя на уже ощипанных, до неприличия голых птиц, застыл кот Маркиз, живший с ними уже более года, но вскоре исчезнувший неизвестно куда…