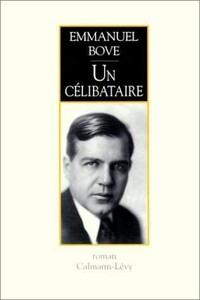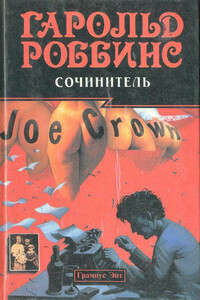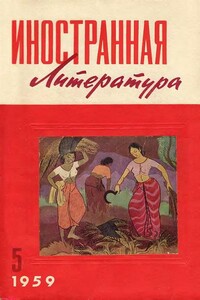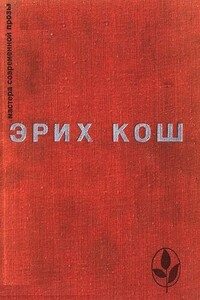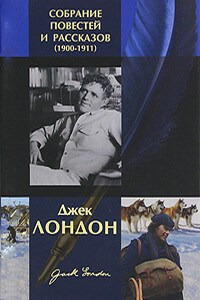Находясь в Лионе, Бриде не переставал искать способ уехать в Англию. Это было непросто. Целыми днями он бегал повсюду, где бы только мог повстречать знакомых, которых еще не видел. Он заходил в кондитерскую у центрального театра, где собирались журналисты-эвакуанты, он гулял по улице Республики, надеясь разглядеть на террасах кафе знакомое лицо, по нескольку раз на день возвращался в гостиницу, надеясь найти там письмо, или записку, или какой-нибудь знак извне.
Но в этой кутерьме, охватившей город, среди забот, одолевавших каждого, между людьми, которые и в Париже-то, если и были знакомы, не особо жаловали друг друга в гости, не находилось места и малейшему чувству солидарности. Люди пожимали друг другу руки, при десятой встрече силясь изобразить ту же радость, что и при первой, и даже сочувствовали друг другу в этой ужасной катастрофе, внушая себе, что горе скорее сплачивает, чем разделяет, – но, как только, заканчивая говорить об общем горе, пытались посвятить собеседника в свой маленький частный случай, оказывались перед глухой стеной.
В этот вечер Бриде вернулся вконец измотанным. Чтобы сохранять за собой комнату, он должен был каждую неделю изображать отъезд, поскольку в гостиницы селили лишь проезжающих. "Нет, это все-таки смешно, – думал он, – за три месяца так и не найти способа уехать. Это становится даже опасным". Уже все начинали догадываться, что он хотел уехать. Ничто так не выдает наших планов, как затянувшееся бездействие. Без конца спрашивать – и ничего не получать: так может создаться впечатление, что ты не никогда не добьешься своего, что ты принадлежишь к той категории где-то даже смешных людей, чьи желания много превосходят их возможности.
4 сентября 1940 года Бриде проснулся раньше обычного. Он занимал в отеле Карно небольшую комнату, №59, последнюю. Она выходила на площадь Карно, как раз на вокзал Перраш. Всю ночь он слышал, как приходили и отходили поезда. Никогда французы столько не путешествовали. На рассвете он слышал шум первых трамваев. Значит, жизнь продолжалась как прежде! Значит, были еще рабочие, которые отправлялись на работу! И в этой размеренной жизни, с дребезжащим вагоном и стуком колес по рельсам, было что-то удручающее.
Солнце взошло, но еще не поднялось выше домов напротив, и его лучи, ни на что не падая, просто разливались по воздуху, придавая небу весенний вид. Вдруг потолок залился бледно-золотым светом. Бриде вспомнил отпускные дни, и у него защемило сердце. Жизнь все так же прекрасна. Ему тоже хотелось путешествовать. Но где ему будет лучше – в Авиньоне, в Тулузе, в Марселе? Он задыхался везде. Куда бы он ни поехал, повсюду угнетала все более и более многочисленная полиция. Каждый агент был усилен новым, порой это был еще штатский, который так спешил заступить на службу, что не дожидался, пока ему выдадут форму.
"Как мне ни противно, но я все равно должен встретиться с Бассоном" – пробормотал Бриде. Каждый день он говорил себе, что должен поехать в Виши. Он сердился на себя за то, что слишком долго выжидал. Он провел все лето в деревнях Пуа-де-Дом, Ардеша, Дромы, неизвестно на что надеясь, и теперь чувствовал, что то, что он мог сделать в неразберихе, последовавшей за перемирием, становится день ото дня труднее.
У него были друзья, например Бассон. Этот, последний, помог бы ему получить какую-нибудь командировку, визу. Выбраться из Франции, дальше Бриде прекрасно справится сам. Англия не была, в конце концов, за семью морями.
"Нет, я непременно должен встретиться с Бассоном", – повторил он. Ему следовало только не раскрывать своих планов. Говорить всем, что он хотел служить делу Национальной революции.
"А поверят ли мне?" – спросил он себя. Он вспомнил, что порядком наговорил, что на протяжении долгого времени не стеснялся говорить того, что думал, да и теперь еще ему случалось не сдержаться. До сих пор разговорчивость эта, казалось, не влекла за собой никаких последствий, но вот, вдруг, в решающий момент, ему стало ясно, что всем знают о его намерениях. Он подумал тогда, чтобы приободрить себя, что в действительности люди судят о нас не по тому, что мы когда-то говорили, – сами-то они наговорили сколько всего, – но по тому, что мы говорим в настоящий момент. Ему оставалось только всецело быть за Маршала. Это удивительный человек. Он спас Францию. Благодаря нему немцы нас начали уважать. Они стали выше своей победы. И мы, мы станем выше нашего поражения, и это позволит двум народам говорить, как равный с равным. Вот, что следовало говорить. Встретив воодушевление, можно было даже пойти еще дальше. Каждый француз, если заглянет глубоко себе в душу и скажет правду, признается, что испытал огромное облегчение с заключением перемирия.
"Вы были на распутье, а теперь – вы дома", – сказал Маршал. Бриде оставалось только повторять. Он не должен испытывать ни малейшего угрызения совести, обманывая подобных людей. Им он может говорить что угодно. Позже, когда он присоединится к Голлю, он себя покажет.