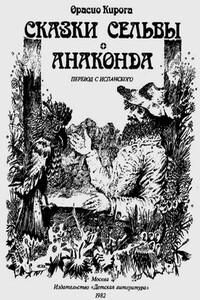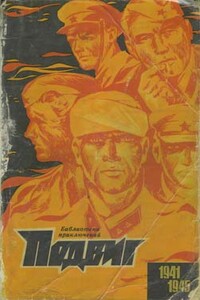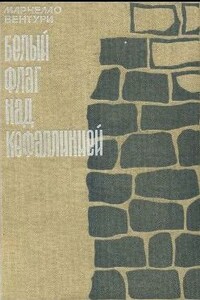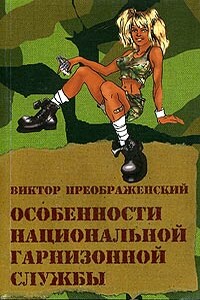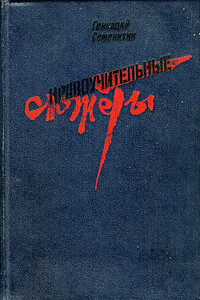Как завороженный, руки безжизненно повисли вдоль туловища, Мильтон смотрел на виллу Фульвии — одинокую виллу на холме, постепенно снижающемся к городу Альба.
Сердце его не стучало, словно боялось выдать себя.
Вот четыре черешни — часть аллеи по ту сторону приоткрытой калитки, вот два бука, вымахавшие намного выше темной глянцевитой кровли. Стены все такие же белые, без пятен, без потеков, несмотря на лютые дожди последних дней.
«Когда я снова увижу ее? Пока идет война, это невозможно. Да и нежелательно. А вот кончится война — я в тот же день помчусь в Турин и разыщу ее. От меня до нее ровно столько, сколько до нашей победы».
Скользя по свежей грязи, к Мильтону подошел его товарищ.
— Чего ты свернул сюда? — спросил Иван. — Почему остановился? Куда ты смотришь? На тот дом? Что он тебе?
— Я не видел его с начала войны и больше не увижу, пока она не кончится. Потерпи пять минут, Иван.
— Одно дело терпеть, другое — на рожон лезть. Тут опасно. Патрули.
— Сюда они не поднимаются, боятся. Самое дальнее — до железной дороги доходят.
— Послушай меня, Мильтон, надо сматываться. Не люблю асфальт.
— Здесь и нет асфальта, — ответил Мильтон, который уже снова повернулся к вилле.
— А там что? — И Иван показал вниз, на отрезок дороги в неглубокой ложбине: асфальт во многих местах разбит, сплошные щербины. — Не люблю асфальт, — повторил Иван! — На проселке можешь заставить меня какую угодно глупость сделать, а асфальт не люблю, и все.
— Подожди меня пять минут, — спокойно сказал Мильтон и направился к вилле.
Иван, недовольно сопя, опустился на корточки и, положив автомат на колени, стал наблюдать за дорогой и тропинками на склоне. Но он успел бросить еще один взгляд вслед своему товарищу. «Как он идет? Сколько знаю его, ни разу не видел, чтобы он так шел. Будто у него спелые помидоры под ногами».
Мильтон был настоящим страшилищем: долговязый, тощий, сутулый. Кожа на лице грубая, бледная-бледная, но малейшая перемена света или настроения — и цвет лица менялся. В двадцать два года по краям рта уже лежали две резкие печальные складки, а лоб прочертили глубокие морщины от привычки вечно хмурить брови. Волосы были каштановые, однако месяцы дождей и пыль сделали свое дело, превратив Мильтона в бесцветного блондина. Хороши были только глаза — грустные и ироничные, жесткие и беспокойные, — которые оценила бы даже сверхравнодушная к нему девушка. У него были длинные худые ноги рысака, что делало шаг Мильтона широким, скорым и легким.
Калитка не скрипнула. Мильтон прошел по аллее до третьей черешни. Что за чудесные ягоды созрели тогда — весной сорок второго! Фульвия влезла на дерево — набрать черешни для него и для себя, для них двоих. Чтобы заесть швейцарский шоколад, запасы которого были у нее, казалось, неисчерпаемы. Она вскарабкалась наверх не хуже мальчишки, ей хотелось нарвать самых, как она говорила, знатных ягод, и она уселась на ветку, с виду не очень крепкую. Лукошко было уже полно, а Фульвия все сидела на дереве, на той же ветке. Ему пришло в голову, будто она медлит нарочно, чтобы он подошел ближе и посмотрел на нее снизу вверх. Вместо этого он отступил на несколько шагов, похолодев с головы до ног, губы у него дрожали. «Слезай. Хватит, слезай. Если ты сейчас же не спустишься, я не притронусь к ягодам. Спускайся, или я вывалю все лукошко за изгородь. Слезай, говорю. Не мучай меня».
Фульвия пронзительно рассмеялась, и из верхних ветвей последней черешни выпорхнула птица.
Легко ступая, он направился дальше, к дому, но, пройдя несколько шагов, остановился и вернулся к черешням. «Как я мог забыть?» — смущенно подумал он.
Это случилось здесь, напротив последней черешни. Фульвия перешла аллею и остановилась на газоне за деревьями. Легла на траву, а ведь на ней было белое платье, да и земля уже остыла. Подобрав косы, она подложила руки под голову и теперь смотрела на солнце. Но едва он вознамерился ступить на газон, она криком остановила его: «Стой где стоишь! Прислонись к дереву. Вот так». Потом, глядя на солнце, сказала: «Ты некрасивый». Мильтон согласился, это было видно по глазам, и она продолжала: «У тебя изумительные глазе, красивый рот, очень красивые руки, но в целом ты урод. — Она чуть повернула голову в его сторону. — А впрочем, не такой уж и урод. Как могут говорить, что ты урод? Это скажет только… только пустомеля. — И опять немного погодя, тихо, но так, чтобы он непременно услышал: — Hieme et aestate, prope et procul, usque dum vivam…{[1]}. О великий боже, дай мне увидеть в том белом облачке профиль человека, которому я это скажу! — Она вскинула на Мильтона глаза и спросила: — Как ты начнешь свое следующее письмо? Фульвия, наказание мое?» — Он покачал головой. Фульвия встревожилась. «Ты хочешь сказать, что следующего письма не будет?» — «Просто я начну его иначе. Насчет писем ты не беспокойся. Я все понимаю. Мы уже не можем без них. Я не могу не писать тебе, ты — не получать моих писем».
Письма были выдумкой Фульвии; когда будущий Мильтон впервые появился на вилле, она потребовала, чтобы он ей написал. Она позвала его перевести песню «Deep Purple»{