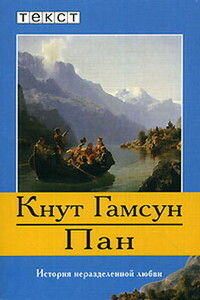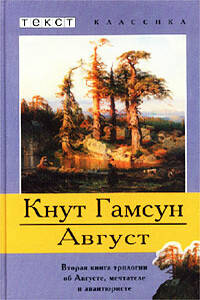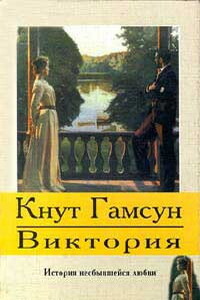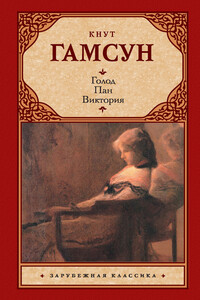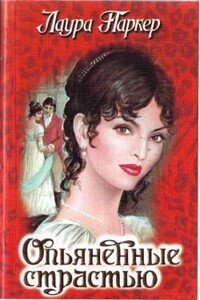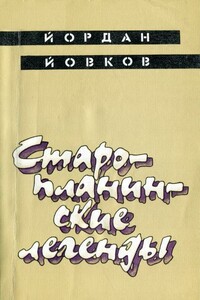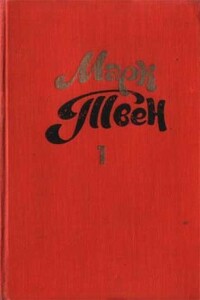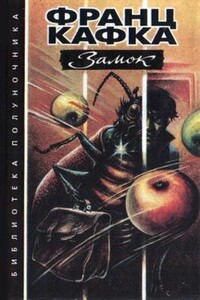И вот я ушёл в лес.
Не потому, не потому, что я чем-нибудь обижен, не потому в особенности, что я уязвлён человеческой злобой, но, раз лес не идёт ко мне, — я должен пойти к нему. Так-то вот оно!
Я мог бы, конечно, нашуметь из-за этого куда больше. Ведь я буду тут думать и накаливать мои великие мысли докрасна.
Ницше сказал бы приблизительно так: «когда я сказал последнее слово людям — они со мной согласились; люди кивнули головой».
Последнее же моё слово было, что я ушёл в лес. Потому что тогда я понял, что сказал либо что-нибудь бесчестное, либо глупое.
Я в таком смысле не высказывался, но просто ушёл в лес.
Не думайте только, что тут ровно ничего не происходит. Снежные хлопья падают здесь, как и в городе, а птицы и звери занимаются своими делами с утра до вечера, да и с вечера до утра.
Я мог бы посылать отсюда описания ужасных историй, но я этого не делаю. Я искал лес ради одиночества и ради моих великих мыслей. Я хочу покоя. Если мне случится когда-нибудь встретить оленя-самца, я, может быть, воскликну: «Царь Небесный, ведь это самец, он свирепый!». Но в том случае, если это произведёт на меня слишком сильное впечатление, тогда я скажу: «это теленок, или пернатое», и превосходно самому себе солгу.
Здесь ничего не должно происходить!
Однажды я видел, что встретились двое лапландцев. Это были парень и девушка. Для начала они повели себя по-человечески. «Здравствуйте», сказали они друг другу и улыбнулись. Но сейчас же после того они упали в снег и довольно-таки надолго скрылись с моих глаз. «Тебе не мешало бы посмотреть на них, — подумал я, когда прошло добрых четверть часа: они, пожалуй, задохнутся в снегу». Тогда они поднялись и разошлись каждый в свою сторону.
Никогда в жизни не видал я ещё такого приветствия.
И днём и ночью я живу в заброшенной торфяной юрте, в которую мне приходится прямо вползать. Когда-то, давно, верно, кто-то сделал её на скорую руку и пользовался ею; его, может быть, преследовали, и он скрывался в ней несколько осенних дней и ночей. Нас двое в юрте; но если я не сочту мою даму за человека, тогда всего один я. Моя дама — это мышь, с которой я вместе живу и которой я дал такое прозвище, чтоб почтить её. Она съедает всё, что я кладу в угол, сидит и смотрит на меня часами.
В юрте было старое-престарое сено, его я вежливо предоставил моей даме; для своей же постели я нарубил, как и подобает, мягких веток. Я взял с собой топор, пилу и несколько необходимых чашек. Есть у меня также мешок из овечьих шкур, мехом внутрь[1]. Целую ночь у меня горит огонь в очаге; а утром моя куртка, висящая около костра, издаёт свежий смолистый запах. Когда мне нужен кофе, я наполняю котелок чистым снегом и вешаю его над огнём; у меня получается вода. И это тоже жизнь?
Ну, вот ты и проговорился. Это жизнь, о которой ты не имеешь представления. У тебя в городе дом, что и говорить, и ты его обставил безделушками, картинами, книгами; но зато у тебя жена и прислуга и множество расходов. И наяву и во сне должен ты гнаться то за тем, то за другим, и никогда у тебя нет покоя.
А у меня есть. Пусть остаются при тебе твои духовные интересы, и книги, и искусства, и газеты, оставь себе также твои кофейни, и твоё виски, от которого мне только каждый раз бывает дурно. Здесь я хожу себе в лесу, и мне хорошо. Если ты предложишь мне духовные вопросы и захочешь поставить меня в тупик, я тебе отвечу только, что Бог, например, это начало, а люди поистине только точки и клочки во вселенной. Дальше ведь и ты не пошёл. Ну, а если ты подвинулся так далеко, что спросишь меня, что такое вечность, так и я дошёл как раз до этих же пор и отвечаю: вечность — это несозданное время, совершенно несозданное время.
Милый друг, приди сюда, я выну из кармана зеркало и брошу солнечное пятно на твоё лицо и освещу тебя, милый друг!
Ты лежишь в кровати до 10 или 11 часов дня и, тем не менее, встаёшь усталый и истомленный. Я вижу тебя перед глазами, когда ты выходишь на улицу, ты щуришь глаза, как будто утренний рассвет наступил слишком рано. А я встаю в 5 часов и чувствую, что выспался. Наружи ещё темно, но света всё же достаточно, чтоб наблюдать за луной, звёздами, облаками и приметами погоды. Я предсказываю погоду за несколько часов раньше. Это смотря по тому, какой шум в воздухе, как трещит лёд на озере — сухо и легко, или глубоко и далеко. Я прекрасно слышу приметы, а когда рассветает, к слуховым я присоединяю зрительные и становлюсь более и более знающим.
И вот показывается узенькая полоска света далеко на востоке, звёзды сами себя поглощают, и свет торжествует. Вот начинает кружить над лесом ворон; тогда я предупреждаю мою даму, чтоб она не выходила наружу из юрты, а то будет съедена.
А когда выпадает новый снег, деревья, кусты и камни получают какую-то неземную, чудовищную форму, точно они ночью пришли сюда совсем из другого мира. Сваленная ветром ель с выкорчеванным корнем кажется ведьмой, которая охромела как раз, когда принимала редкостные позы.
Там проскакал заяц, а там следы одинокого оленя. Я выношу мой мешок наружу и вешаю его высоко на дерево. Ведь моя дама всё пожирает. А сам я иду в лес по следам оленя. Животное путешествовало совершенно спокойно, как я вижу, но у него была определённая цель, оно направлялось прямо на восток, навстречу дневному свету. В реке Шель, которая так быстра, что никогда не замерзает, олень напился, разгрёб снег на холме, ища моха, отдохнул немного и пошёл дальше.