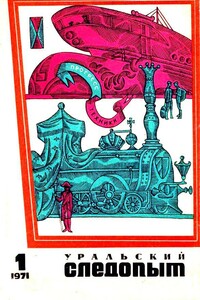Вечером возле нашего дома вскрикнула машина, разбудила меня и Грозного.
Он залился отчаянным брехом, прямо-таки с ума сходил на цепи, таская ее за собой по двору. Но надолго Грозного не хватило: сорвался на визг, потом и вовсе заскулил — жалобно и ласково, будто за грехи прощение вымаливал.
А я лежал в горнице и не хотел открывать глаза. Спать хотел. Какой-то красивый снился мне до этого сон, а какой — хоть убей, не вспомню. Может, еще приснится?.. Я повернулся с левого на правый бок. Но не тут-то было.
С кем-то заговорила на кухне мать, кто-то отвечал ей. О чем бубнят — не расслышать.
Да я и так знал, о чем.
Наверно, как не раз бывало, туристы припоздали в город уехать и просятся на ночлег. Сейчас мать проведет их в сарай, под соломенную крышу, а утром накормит молодой картошкой с малосольными огурцами, напоит чаем. И туристы — щедрый народ! — протянут ей в благодарность за ночлег и завтрак мятые рублевки, а мать будет отнекиваться, несогласно качать головой. Мол, ей это ничего не стоило, какая тут может быть плата… «Как не стоило, да вы что!» — притворно возмутятся туристы, а лица у них с утра будут такие же мятые, как и рублевые бумажки, и своим упрямством они переборют смущение матери. Навяжут ей деньги.
Каждый год одно и то же.
Тут я снова уснул. Долго ли, коротко ли спал — не знаю, но меня опять разбудили: кто-то пощекотал за ухом, поцеловал в лоб. Я раскрыл глаза и быстро закрыл их: лампочка горела прямо над головой. Но за короткую секунду успел я увидеть и узнать Юльку.
— Сестренка, — пробормотал я, — ты приехала? Здравствуй.
Она снова поцеловала меня, на этот раз в губы, провела рукой по моим волосам.
— Как ты облохмател, Сенька, ужас прямо! И какой большой стал. А я-то, дурочка, автомат тебе привезла. «Огонек» называется.
— Ладно, пусть автомат, — согласился я. — Однофамильцам своим отдам, Мишке с Люськой… Ты, Юлька, ложись здесь, в горнице, а я в сарай переселюсь.
Юлька гладила меня по голове, и мне было приятно, что у нее такая твердая и такая прохладная рука.
— Спи, Сенька, никуда не надо переселяться. Я, может, совсем ложиться не стану.
Она выключила свет и неслышно уплыла на кухню. Там, наверно, поджидала ее мать. А я как в черный омут ухнул — заснул без задних ног.
Утром, сквозь дрему, услыхал я, как разоряется на кухне мать.
— …он, подлец, поматросил и бросил, и с квартиры тебя согнал. А ты, кукушка, рада была стараться: матери в подоле снесу. Не порвется мать-то, двужильная…
Голос у матери… Трудно было узнать ее голос: он стал тонким и острым, как лезвие безопасной бритвы. И слов таких никогда в жизни я от нее не слыхивал.
«Значит, не приснилась Юлька, приехала. И беда у нее… Пропадет теперь сестренка — будет мать ее точить, не даст житья», — понял я. Уж кому, как не мне, знать матушкин характер.
Я спрыгнул с койки, прошлепал через горницу и застрял в дверях на кухню.
Мать шуровала ухватом в печи, гремела чугунками и кастрюлями: бум-дзеньк, бум-дзеньк. И сыпала слово за словом:
— Было тебе говорено: не разевай рот. Сошлись, живете — распишитесь честь по чести. А ты? Хвостом вертела: ах, он такой, он сякой, порядочный, честный… У них, кобелей, вся порядочность — токо потешиться, поиграть токо. Срам-то какой, люди что говорить станут…
Юля сидела у окна, уперев локти в стол, и за сомкнутыми на лице руками никак невозможно было рассмотреть ее глаза. Молчала Юля.
На табурете, у самых дверей, лежала коробка с игрушечным автоматом «Огонек». Я тихохонько взял ее в руки, распутал шпагат, достал игрушку.
— И не думай здесь оставаться, в доме тебе места нету, — кипела мать.
— Ты чего к ней привязалась? — подал я голос. — Пилишь и пилишь. Она вон и не спала с дороги.
— Как же, привяжешься к ней! Сама хоть кому на шею…
Мать осеклась, повернулась ко мне. Лицо ее раскраснелось от гнева и печного жара — хоть спички зажигай. Изумленно спросила:
— А это что еще за заступник? Во взрослый разговор нос суешь!
— То, что ты тут ей наговорила, антипедагогично, — сказал я. — До старости дожила, а не понимаешь.
Мать закричала как-то по-дурному, истошно. Замахнулась на меня ухватом. Я направил автомат в пол и нажал на спусковой крючок. Вспышки оранжевого пламени заплясали в прорезях ствола. Мать ойкнула. А я не стал дожидаться, пока она придет в себя и достанет ухватом мою спину — бросил автомат, нырнул ей под руку, выскочил во двор.
Грозный, гремя цепью, бросился ко мне, с размаху уперся лапами в грудь.
— Ну что, цыган, что, черненький мой, на волю хочешь? — потрепал я его за уши.
И расстегнул ошейник на нем.
— Эй! — окликнули меня.
У плетня, навалясь на него грудью, Колька стоял и посвистывал легонько: фьить-фьить. Ишь, соловей какой, только губы толсты для соловьиной песни.
— Кончай, — сказал я ему, открывая калитку. — Пошли!
— Здоров ты дрыхнуть! Пока добудился — язык высох.
— А я и не слышал тебя. Сам встал.
Колька нехотя отклеился от плетня, посмотрел на меня сверху вниз. Росточек у него что надо — ему бы в баскет играть. Метр девяносто один! Он самого себя из-за роста стесняется: я по нашей деревне в плавках хожу, а Колька длинные штаны с разными там бляшками и застежками «молния» носит. Кто не знает — ни в какую не верит, что Колька этой весной всего лишь восемь классов закончил. «Ты, Николай, продукт акселерации, ускоренного роста, — сказал ему однажды школьный физрук Аркадий Константинович, — а ведь тебе еще лет пять-шесть расти». Это каким же он будет, когда в мужика вымахает?