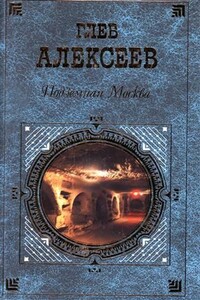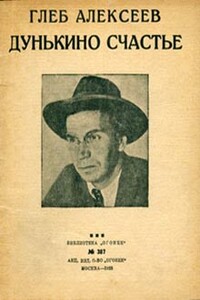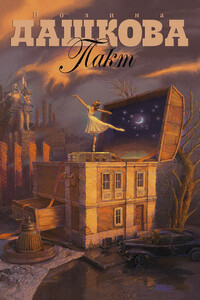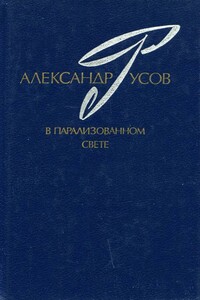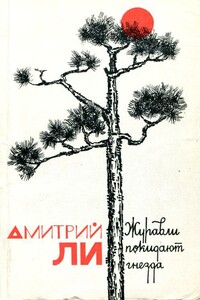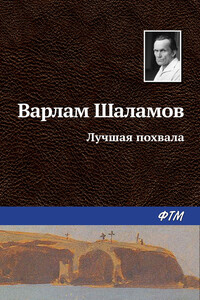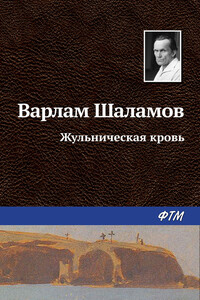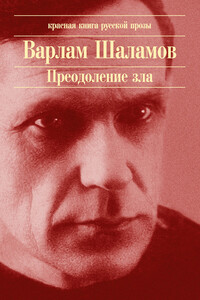А я тогда так и глядел на существо вещей: началось под носом строительство — значит надо на строительство идти, для деревни от строительства — прибыль, счастье само скачет в руку, как заяц по первому снегу.
И не стану я описывать вам, как кинулся в самую гущу энтузиазма, как волок все, что ни попало: и гвоздей, бывало, принесешь полный карман, и бутылочку приспособишь под олифу, и проволоки на руку намотаешь, и в доме все мало-помалу начало принимать красивый оттенок жизни: я ведь чужого не жалел, конуру для собаки — и ту выкрасил лазоревым цветом. И от родителя моего, который никак не соглашался, чтоб я по весне от поля уходил, получилось прямое благословение: добытчик. А работы на плотинах меж тем шли. Землю на плотину возили, навоз возили, камень возили и клали по-чудному — на полверсты, а всей знаменитой реке нашей Шату было два шага ширины. И на всей крестьянской земле нашей поднялась большая и невиданная толчея.
Тогда я не знал, а теперь знаю, что плотины нужны, чтоб удержать воду для электростанции и завода нашего Бобриковского химического комбината. А знаете ли вы, как ледополье на реке настает? С поля, с лужков начинается оно. Заскрипят, зашепчут, заговорят ручейки в полях, все сильнее, все громче с каждым днем и все ближе и ближе поползут, потекут к реке. И вот доползут они, возьмутся заливать реку, встанут ледовистыми озерками, и тогда речной лед начнет вздуваться, волдырять, словно земное дыхание поднимает его кверху. И вдруг в ночь какую треснет, поломается, поколется, загремит, заскрипит, заплачет — и пойдет, и пойдет, и пойде-ет ломить вниз. А мужики на берегу гадают, как лед по реке идет. Грудами идет — хлебов будут груды; тонет лед — на тяжелый, бесхлебный год. То-то мужицкая наша наука! Какой, мол, господь-бог знак на будущее подает! Бога мы, как видите, во всем слушались, окромя еды, сна и водки. Ну, а строительство, значит, решило на тот год побороться с божескими и природными законами: не пустить лед сойти, запереть плотинами течение и дать, значит, растаять всему льду на месте. Вот почему мужики и не верили. Не верили и боялись. Удержится лед, значит, все наши деревни — Урусово, Степановка, Васильевка, Белый Колодезь, Докторские выселки, Нюховка — неминуемо зальет вода. Я ведь отсюда. За тем вон бугром сидит теперь наша деревня, успела все-таки перебежать с места на место, а тогда, помню, пришел к отцу, говорю: так-то, мол, и так, пора переезжать, и на переселение дают от строительства каждому крестьянскому дому полторы тысячи и по тысяче семьсот; враз наоборот, чем по нашей жизни: чей дом хуже, тому на переселение больше.
Засмеялся старик в ответ:
— Чем же наш дом хуже самого богатого дома в Урусове, когда собачник и тот заиграл поднебесной краской?
Отец у меня — старой жизни, и даже, знаете, не то, что жизни старой: бедняк он, а памяти о старой жизни предан по самый пупок.
— Одначе, — говорю, — тятенька, сноситься все равно надо, вода, — говорю, — встанет в этих местах, как стена, здесь, над этой вот ракиткой, где маменька меня родила, пойдут сигать синие волны.
Интересно, знаете, припомнить этот разговор в точности.
— Ой ли? — отвечает он мне. — Ужель в самом деле большевики умнее Петра Великого захотели быть?
А сказывали старики, что хотел Петр Великий городить наши реки Шат и Любовку, чтоб с Иван-озера спустить по Дону флот, — с турками, что ли, он тогда воевал. И дважды загораживал он реки, и реки в ледолом дважды рвали плотины, и тому самому строителю отрубил Петр голову, да тем и закончил.
Подошел ко мне отец в упор, качнулся к самым зенькам и шепчет:
— Ужель на то пойдешь, чтоб родное село водой затопить? Ужель в ледополье-то все вы сукиными сынами окажетесь и на родное село озеро пустите? Аль, — говорит, — не наша сила, не урусовская, не степановская, не мужицкая землю рыть будет да гати стлать?
Смотрю я, знаете, в тот момент на отца моего кровного, а лицо-то и не его: невозможное рыло чудится, и в голове у меня жар, и руки трясутся, и слова путного отговорить ему не умею. В первый раз со мной такой припадок тогда случился. И к плотине на работу воротился я сам не свой. А весна, знаете ли, подвигалась, и очень смешно мне казалось, что речонка сама в два метра шириной, а плотину выкладывают на пятьсот тридцать, и не верил я никак, что соберется в Шате столько воды, что может она с головой залить наши деревни. И опять же отец с матерью неотступно перед глазами стоят. Мать пирогами с яблоками угощает, с собой пирогов дала в узелочке. Строгая она у меня старуха, всю свою жизнь промолчала; худая — как палка, на ходу не гнется.
Работали мы тогда на плотине из рук вон плохо. Не все, конечно. Те, что «понимали», работали лучше мужиков из наших деревень или отходников из Тамбовской и Рязанской. Эти смотрели, как и мы, больше в свой мешок: у редкого не было целого мешка наворованного добра. А снабжение у нас в то время пошаливало, хлеб давали непропеченный, столовые в очередях — поле ведь, мужицкое поле! Где ж тут сразу наладить?! Впрочем, мне нехватки нипочем были. Я и сыт, и в тепле, и даже прибыток в хозяйство каждый день волоку. Работаешь помаленьку, а в голову тебе стучит, будто в слуховое оконце: не себе ли копаешь могилу? Для матери своей с отцом родным? Раздумаешься, а лопата и валится, голова валится, сам валишься, а куда валиться — одна грязь кругом, снег, холод, даль наша бобриковская — мертвая; знаете, какая тут даль была? — двумя глазами не схватишь!