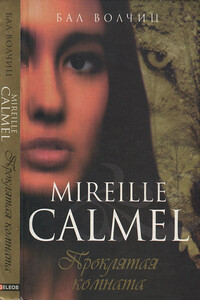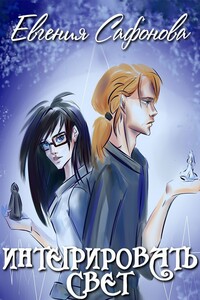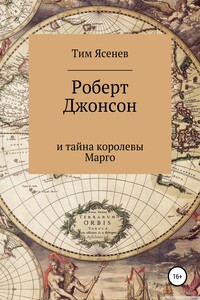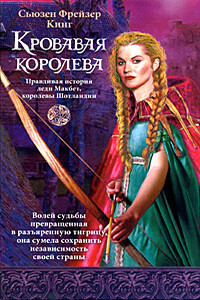— Мама, я кто?
— Ты ангел! — сказала Сесили, не отрываясь от важного дела: она старательно зашнуровывала начищенные до ослепительного блеска башмачки Мери.
В то утро, 8 апреля 1686 года, девочка с высоты своих семи лет выслушала это утверждение с недоверчивым видом.
Стоя перед большим наклонным зеркалом — потрескавшимся, облезлым, в пятнах ржавчины, — она осмотрела себя со всех сторон, вертя тощенькой попкой: нет, ей никак не удавалось себе понравиться.
В старом зеркале отражалось существо неопределенного пола. Кудрявые рыжие волосы были подстрижены так неровно, что одни пряди падали сзади на шею, другие топорщились на затылке, третьи непослушными вихрами залезали на впалые щеки, усыпанные веснушками, а то и щекотали нос. По-детски припухлый рот и печальный взгляд темных глаз только подчеркивали хрупкость ребенка.
В платьях, которые мать перешивала для нее из своих, изношенных еще в девичестве, Мери все-таки иногда казалась себе довольно хорошенькой. Но в этих нелепых, в этих ну просто смехотворных тряпках, в которые Сесили обряжала дочку вот уже несколько месяцев, добиться подобного эффекта было куда труднее.
— А я мальчик или девочка? — продолжило дитя расспросы.
Сесили весело расхохоталась:
— У ангелов не бывает пола, солнышко! А на самом деле, Мери, ты девочка, переодетая мальчиком. Но только пусть это останется нашим с тобой секретом. Тебе ведь не хотелось бы, чтобы твою бедную мамочку снова выкинули из высшего общества, куда мы стремимся?
— Нет, мамочка, что ты… — нежно прошептала в ответ Мери.
У самой Сесили было и впрямь ангельское выражение лица, неизменно заставлявшее всякого, кто вздумал бы воспротивиться ее фантазиям, тут же почувствовать себя виноватым и немедленно принять ее сторону. Молодая женщина сохранила, увы, лишь следы былой красоты. Несмотря на худобу, она и сейчас могла бы произвести впечатление красивой, если бы постоянно возвращающаяся печаль не прорезала глубокими преждевременными морщинами ее молочно-белое лицо.
Мать опустилась перед Мери на колени, прямо на холодный пол комнаты, снятой ими в маленькой лондонской харчевне.
— Видишь ли, благодаря такому чудесному секрету мы с тобой сможем совершить великие дела. Ты ведь мне веришь, правда, Мери?
Девочка, не сказав в ответ ни слова, кивнула. Нужно было всегда верить Сесили, что бы та ни говорила, потому что сама Сесили всегда в это верила свято — даже совершая самые крупные из своих ошибок.
Сесили, словно почувствовав в этом молчании сомнение или, хуже того, и впрямь терзавшее ее дочку с некоторых пор недоверие, прижала малышку к себе и усадила с собой рядом на железную кровать, составлявшую вкупе с сундуком и колченогим столиком всю обстановку номера. Даже вместе мать и дочь весили немного, тем не менее тощий соломенный тюфяк сразу же провис, а ветхое стеганое одеяло скомкалось.
— Ты уже взрослая, Мери, — продолжила бедная женщина, сжимая руки дочери, — ты должна понимать. До сих пор я могла предложить тебе лишь такие вот убогие комнаты, а на ужин я кладу на твою тарелку размятую картошку куда чаще, чем мясо, и одеваю тебя только в старые тряпки… Разве о такой жизни для тебя я мечтала? Но что, что я могу поделать?! Я проклята от рождения, даже до рождения, милая моя деточка! Я создана для любви, это верно. Да что с этого толку-то?!
Мери прижалась к матери, подавив досадливый вздох и стараясь полностью насладиться теплом ее тела. Ох, опять сейчас начнутся эти давно надоевшие излияния!
Материнскую историю она выучила наизусть. Была помладше — плакала вместе с матерью над ее несчастьями. А теперь… Сесили права: теперь она взрослая, слишком много видела горя, чтобы все еще раскисать. Ее больше не разжалобишь! Сесили постоянно металась между эйфорией и депрессией. И что? Мери тоже должна метаться? Нетушки, она досыта нахлебалась что одного, что другого, и теперь любая неумеренность ее только раздражает.
Тем не менее девочка молчала, и мысли то возникали, то исчезали в медленном ритме баюкающих ее материнских рук. Сесили рассказывала ей — в точности так же, как своим случайным любовникам, — все ту же повесть о своем отчаянии.
Джон Рид, младший сын богатого лондонского судовладельца, прельщенный красотой и грацией Сесили, женился на ней вопреки воле родителей. Риды надеялись, что сын вступит в брак, полезный для их дела, да и Сесили вовсе не обладала, как они считали, теми достоинствами, какие обнаружил в ней их наследник. Что в ней хорошего? Из самых низов, сирота, всего-то и приданого, что нежная привязанность взявшего ее к себе после смерти родителей старика дядюшки — он был когда-то простым матросом на рыболовном судне и никаких капиталов за всю жизнь не скопил, никаких полезных связей не заимел… Однако упрямый Джон решился пренебречь родительским запретом, после чего семья, разумеется, от него отреклась и он лишился наследства.
Джону Риду пришлось стать матросом — надо же было на что-то содержать молодую жену и ребенка, который вскорости появился на свет. Это был мальчик, Мери Оливер, рыженький и хилый. Его, как и Сесили, семейство Ридов признавать не захотело.