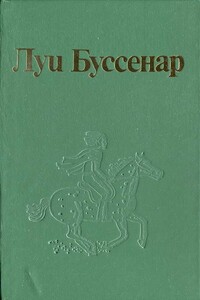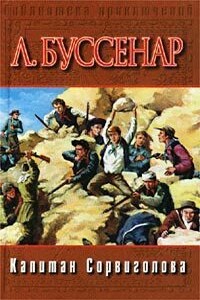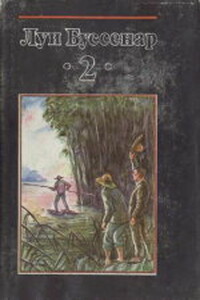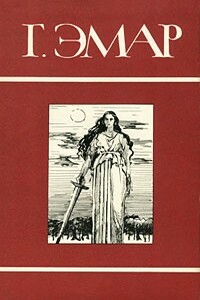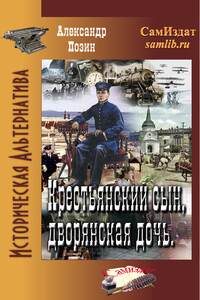Присев на километровый столбик и положив винтовку системы Шассо на раздвинутые и слегка отклоненные в сторону колени, тюркос наблюдал жалкое зрелище: французская армия отступала по дороге на Орлеан.
Африканец был в феске, надвинутой на уши, в недлинной куртке небесно-голубого цвета, из ворота которой торчала его голая шея. Руки солдата свисали вдоль туловища. Не чувствуя морозного ветра, что дул ему прямо в лицо и кусал за щеки, он смотрел, как проходили войска, героически оборонявшиеся в течение трех дней, а теперь отступавшие под натиском численно превосходящего неприятеля.
Пехотинцы, моряки, стрелки, солдаты национальной гвардии, измотанные, изнуренные, отчаявшиеся, шли, согнувшись под тяжестью вещевых мешков и волоча ноги по дороге, покрытой снегом, а справа и слева по полям, по затвердевшим от мороза колеям двигались пушки, монотонно стуча ступицами; их с трудом тянули истощенные лошади с заиндевевшими гривами. Вдали на флангах маячили, как красные призраки, немногочисленные спаги[1] в широких плащах; эти конники устремлялись на помощь тем отступавшим группам солдат, на которые особенно наседали вражеские кавалеристы.
По обеим сторонам дороги в удручающем беспорядке тащились раненые солдаты: одни — с трудом волоча израненные ноги, другие — согнувшись в три погибели, третьи прятали искалеченные руки под шинелями, у некоторых головы были обвязаны носовыми платками, многие шли, опираясь на винтовку, как на костыль. Время от времени они оглядывались назад с выражением ярости и тревоги на лицах.
Изредка над полем призывно звучали фанфары, но вскоре затихали, хотя все же придавали немного бодрости несчастным солдатам и не давали им чувствовать себя совершенно брошенными на произвол судьбы.
Вот прозвучали краткие приказы командиров рот и взводов:
— Сомкнуть ряды!.. Сомкнуть ряды!..
Миновав деревню Сен-Лие, армия углубилась в лес…
Тюркос, неподвижно, словно окаменев от холода, сидевший на километровом столбике, смотрел большими черными глазами на сильно поредевшие батальоны, на молчавшие пушки, на изнуренных людей, на задыхающихся лошадей и яростно скрежетал зубами.
Какой-то весельчак — а такие есть всегда и везде — крикнул ему, проходя мимо:
— Эй, арабчонок!.. Что ты здесь маешься? Ждешь свою подружку?..
Слыша громкий смех, вызванный этой шуткой весьма сомнительного свойства, какой-то сержант из стрелков сказал:
— Пошли, приятель! Пруссаки приближаются…
Тюркос отрицательно покачал головой и ничего не ответил.
Видя, что тюркос один, капитан национальной гвардии с недоверием посмотрел на него и произнес:
— Уж не собрался ли этот мошенник дезертировать?..
Африканец гордо улыбнулся и ответил своим гортанным голосом:
— Нет дезертор! Моя хороший солдат!
Да, конечно! Хороший солдат. И в то время, когда последние ряды арьергарда побежали рысцой, чтобы не отстать от передних, он в течение нескольких секунд вспомнил свою жизнь с того дня, когда его полк был брошен на врага, перешедшего границу.
Виссамбур и гибель покрывших себя славой алжирских стрелков… Рейхсгофен и беспощадная схватка, в которой были перемолоты африканские части… Седан! Ярость после пленения, побег… присоединение к Луарской армии… битва под Артене, ежедневные стычки… еще кровоточащая рана на плече и, наконец, страшная битва два дня тому назад.
Тюркос представил себе, как посреди порохового дыма, вспышек винтовочных выстрелов и урагана пулеметных очередей он присоединился к солдатам, одетым в такую же, как и у него, форму, но более светлого оттенка, к тем храбрецам, что сражались как львы. Командир — колосс с рыжими волосами, с орлиным взором; солдаты — смелые юноши, падавшие как подкошенные около знамени из белого шелка, сраженные залпами врага.
Шаретт!.. Зуавы.
Хотя парень не знал, что означают их форма и знамя, он встал в строй вместе с ними. Волонтеры с запада по-братски приняли в свои ряды африканца. Шаретт крикнул: «Вперед!» — и воинская часть стремительно пошла в атаку.
Наконец он увидел себя вечером в поредевшем наполовину батальоне, у иссеченного пулями знамени; с чувством боли и гордости он отдал ему честь.
Да, он хороший солдат, этот молодой двадцатилетний тюркос, который теперь остался один на лесной дороге…
Один! Ибо основная часть французской армии была уже далеко, даже отставшие от своих подразделений солдаты и раненые уже прошли.
…Между тем с севера, где находился неприятель, донесся глухой шум. На светлом горизонте четко вырисовывается темная линия со сверкающей медной каймой. Шум усиливается. Это своего рода размеренный топот ног, хорошо знакомый солдату-африканцу. Идет пехота, идет прусский полк, чеканя шаг своими железными каблуками по дороге, и этот топот еще более усиливается, так как земля промерзла… Да, идут пруссаки!..
Целый полк!
Тюркос наконец встает. Заряжает винтовку, прикрепляет к ней штык, поворачивается лицом к неприятелю и хладнокровно ждет.
Когда пруссаки подходят на расстояние пятисот метров, он прикладывает винтовку к щеке, стреляет и в дикой радости кричит, увидев, что упал один из вражеских солдат. Действуя столь же отважно, сколь и осторожно, тюркос тут же прыгает в яму, укрывается за своим вещевым мешком, который он поставил на край, вновь заряжает винтовку и продолжает стрелять.