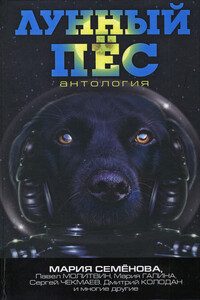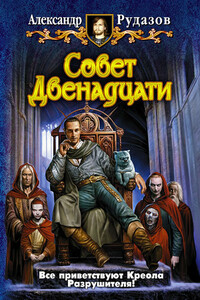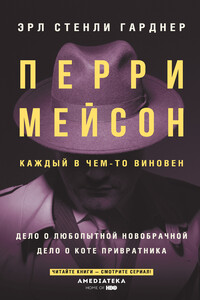Было это летом девяносто седьмого года. Мы, внештатные авторы «Санди таймс», собрались на ужин в одном лондонском ресторане по приглашению редактора Робина Моргана – послушать его мысли насчет материалов грядущей зимы. Филипп Норман, чьи отмеченные премией интервью передавали волшебство и безумие рок-н-ролла, эксперт по делам Ватикана Джон Корнуэлл из колледжа Иисуса в Кембридже, Брайан Эпплъярд, умеющий прозрачно и увлекательно излагать передовые научные вопросы, и другие собрались вокруг запеченной в тесте утки, и нам всем было предложено написать ударный материал в серию под названием «Мой герой». Домой я вернулась в радостном возбуждении. Я точно знала, кто станет моей героиней, и считала, что давно уже пора напомнить о ее славной жизни. Очерк, опубликованный в октябре, принес мне столько писем, сколько их не было за тридцать шесть лет работы в журналистике.
Знаменитая когда-то более Лоуренса Аравийского, Гертруда Белл соревновалась с мужчинами в мужском мире и на мужских условиях, избегая любой публичности. Ей было бы наплевать, что в начале популярного фильма девяносто седьмого года «Английский пациент» ее имя поминают всуе британские солдаты над картой, разложенной на складном столе в камуфляжной палатке.
– Но как мы пройдем через эти горы?
– На карте Белла есть дорога. – И потом: – Будем надеяться, что он не ошибся.
Он!
Начиная писать о Гертруде Белл, я относилась к ней как к одной из героинь «Диких берегов», мотающихся по миру под влиянием романтических идей. Мне нравилось, как она стильно одевалась и стильно жила – пристегнутый к икре пистолет под шелковой нижней юбкой, платья из кружев и плиссированного муслина, стол в пустыне накрыт крахмальной скатертью и серебром, патроны завернуты в белые чулки и засунуты в носки парусиновых сапог. Она не была феминисткой, ей не нужно было особое отношение. Подобно миссис Тэтчер, которой можно восхищаться или возмущаться, она принимала мир именно таким, каким его видела. Только было это в восьмидесятых годах девятнадцатого века, когда женщинам не полагалось ни образования, ни возможности проявить себя за пределами дома.
Беллы были очень богаты, но не деньги сделали Гертруду первой в Оксфорде, не они помогли ей выжить в стычках с кровожадными племенами пустынь и стать разведчицей и майором британской армии, и не они сделали ее поэтом, ученым, историком, альпинистом, картографом, археологом, агрономом, лингвистом и выдающимся слугой государства. В каждой из этих областей деятельности она достигла вершин, в некоторых даже являлась первопроходцем. Она была многогранна и в этом аспекте сравнима с Елизаветой Первой и Екатериной Второй. Т. Э. Лоуренс писал, что Гертруда «родилась слишком одаренной». Но родилась она в семье суровой и строгой и очень гордилась практическими достижениями своих родных: их экономической образованностью, умением управлять огромными сталелитейными предприятиями, их публичной и частной благотворительностью. Сама Гертруда, когда требовалось, могла заниматься изнурительной и незаметной рутиной – именно так она вытащила из хаоса отдел раненых и пропавших без вести Красного Креста и наладила в нем работу. Она могла тянуть административную текучку и заниматься картографией, выполнять сотни прецизионных измерений на археологических раскопках и писать пачки меморандумов в Басре и Багдаде.
Беллы, поднявшись за три поколения от ремесленников до верхушки среднего класса, стали родниться с аристократией, но оставались вне больших социальных сетей английской жизни, этих эксклюзивных клубов, которые жалуют своих членов наследственными привилегиями и властью и определяют их предрассудки, связи и дружбу. Гертруда наслаждалась редкой свободой от этих капканов, что запирают нас в борозды социальной жизни. Она встречалась на равных с сильными мира сего, но помнила, что значит принадлежать к классу работников, и знала, как семьи рабочих стоят на грани между выживанием и пропастью улицы и работного дома. Ясное и прямое ее зрение прорезало политическую корректность, чувство собственной важности, статус и славу насквозь. Она гроша ломаного не давала за самоуверенного епископа, надутого государственного чиновника или самодовольного профессора. В пятнадцать лет она решила, что недоказуемого не существует, и без обиняков сообщила об этом своему преподавателю Закона Божия. Гертруда ни с кем не кривила душой: ни со снисходительным преподавателем, ни с играющим ножом дервишем, ни с коррумпированным турецким чиновником или избалованным английским аристократом. У нее были друзья из всех слоев – от иракского садовника до вице-короля Индии, от корреспондента «Таймс» до исчерченного шрамами воина племени, от муджтахида до слуги из Алеппо. Раз человеку поверив, она становилась его самым любящим, внимательным и преданным другом.
Конечно, Гертруда наживала и врагов. Она ни в грош не ставила скромно одаренных жен британских офицеров. «Черт бы побрал всех праздных баб!» – сказала она однажды. Она готова была атаковать всякого, кто ей угрожал, противостояла негодяям и убийцам и говорила им правду в лицо за обеденным столом. Я подумала в какой-то момент своего исследования, что ее мог потом убить кто-то из них, и есть исследователи ее биографии и творчества, которые верят, что так оно и было, – среди них по крайней мере один недавний член Британского совета. Будто осознавая эту постоянную угрозу, Гертруда всегда спала с пистолетом под подушкой, даже в фамильном доме в Йоркшире – там она предпочитала ночевать в летнем домике в саду, а не в комфорте своей спальни среди любящих родственников. Пыталась ли она так вывести их из-под удара? Хотя, несомненно, существовали люди, желавшие ее смерти, свидетельств убийства я не нашла (если они и есть, обнаружить их трудно). Но я верю, что она, исполнясь любопытства, храбро шла в экспедициях навстречу неизвестности, так же вышла навстречу ей и в тот последний раз.