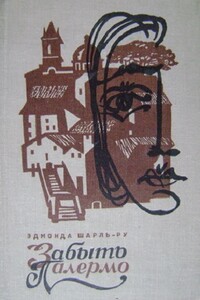Воспоминания о друзьях и не только о них
ПРОФЕССИЯ
НАЧАЛО
Цитата из воспоминаний – покуда чужих:
«Я увидел его в гостинице «Октябрьская» в компании московских поэтов. Он поставил ногу на стул, на колено – гитару, подтянул струны и начал. Что начал? Потом это стали называть песнями Окуджавы. А тогда было еще непонятно, что это.
…Окуджава уехал в Москву. А я рассказывал и рассказывал о нем, пока директор Дома искусств не полюбопытствовал, что это были за песни. Я изложил их своими словами. И вскоре в ленинградском Доме искусств был запланирован первый публичный вечер Окуджавы.
…Перед тем как я должен был представить его слушателям, он попросил:
– Только не говорите, что это песни. Это стихи.
Видимо, он не был уверен в музыкальных достоинствах того, что он делал.
На следующем вечере Окуджавы перед Домом искусств стояла толпа.
– Что такое тут? – спрашивали прохожие.
– Аджубей приехал, – отвечали».
Вспоминает Александр Володин, «Шура Лифшиц», которому Окуджава посвятил нежное стихотворение. Могу точно назвать и время, когда тот открыл для себя «непонятно что»: декабрь 1959-го. Мы с Окуджавой по командировке «Литературной газеты» прибыли в Ленинград на странное сборище, именовавшееся, кажется, Всесоюзным съездом поэтов, на каковом, впрочем, ни разу не объявились (представив родному печатному органу халтурнейшую отписку). Питер в те дни гудел и пьяно шатался от нашествия стихотворческих толп, мы очутились в центре разгульно-романтического водоворота, и – прав Володин – компания москвичей (Винокуров, Вознесенский, Казакова), собиравшаяся в нашем номере привокзальной «Октябрьской», – этот весьма узкий кружок, к коему присоединилось несколько ленинградцев, на ту пору был самой широкой аудиторией, перед которой Булат решился пропеть свои песни-стихи. Второй стала литгазетская наша компания на Новогодье с того же 59-го на 60-й, тоже не многолюднее чем два десятка друзей-сослуживцев, – правда, им всем, в отличие от Володина, песни были уже известны от меня, который их бесперечь демонстрировал. (Смешно сказать, даже, помню, в Калуге, где я очутился на 69-летии Паустовского, был принуждаем хозяином-именинником голосить целый вечер и «Мальчиков», и «Леньку Королева», и «Ваньку Морозова» – при моем-то более чем сомнительном вокале.) Потому что я, так получилось, знал того, чью фамилию в самом деле трудно усваивало русское ухо, – Акаджав называли его в армии, Ухудшавой именовали литгазетские девочки-курьерши, отнюдь не намереваясь острить, – к тому времени уже более года. С мая 1958-го.
Так что и у меня есть право кое-что вспомнить. Заодно – уточнить.
…За несколько лет до смерти Булата Окуджавы я наконец собрался спросить его, нарочно или по оплошности памяти в однотомничке 1984 года он сдвинул даты под ранними стихотворениями. Например, то, что относится к 58-му, отнес к 57-му, будто нарочно потакая вольностям фильма «Покровские ворота» или «Москва слезам не верит», где его песни звучат в те дни, когда их еще попросту не было.
– А! – беспечно махнул он рукой вполне в своем духе.
– Это редактор попросил поставить даты, я и назвал их примерно. Какая разница?
Разница, однако, есть – и, быть может, не только для меня, очевидца.
Итак…
Когда я в 1958-м, окончив филфак университета, «в рассуждении чего бы покушать» и за неимением лучшего (аспирантура не могла обломиться по причине недостаточной политической благонадежности, точнее, того, что казалось таковым соответствующим органам) поступил в отдел писем издательства «Молодая гвардия», дабы отвечать юным читателям: «Дорогая Соня! Нам очень приятно, что тебе понравилась повесть А. Алексина «Саша и Шура», рекомендуем тебе…» и т. п., – короче, в соседнем кабинете обнаружился молодой грузин с шевелюрой, как говорится, царапающей потолок. В сереньком, помнится, несменяемом пиджачке («На мне костюмчик серый-серый, как будто серая шинель…»), а по зимнему времени – в войлочных ботинках.
Впрочем, эти ботинки я вряд ли бы вспомнил: их выхватил из тьмы времен цепкий взор Евгения Евтушенко, уже тогда, в пику былой своей беспризорщине, знавшего толк во франтовстве и запечатлевшего обувь марки «прощай, молодость» в своей поздней статье об Окуджаве, успевшем прославиться. А мне снегоступы не сразу вспомнились не только по моему равнодушию к щегольству. Просто в применении к Булату все это как-то не имело значения – кажется (даже наверняка), и для него самого.
В сущности, здесь на бытовом, будничном уровне проявилось то, что можно, коли угодно, назвать скромностью, но гораздо точнее – взрослостью: тем, что отличало Окуджаву на общем инфантильном фоне литераторских честолюбий. Мне, во всяком случае, не известен никто из обретших подобную славу – хотя учтем: много ль подобных? – кому удалось бы столь явно избежать перерождения. Отчего я с недоверием встретил в одной из газет предсмертное замечание Окуджавы, пересказанное Анатолием Гладилиным: нам с тобой, Толя, будто бы сказал, умирая под Парижем, Булат, повезло. Мы еще в шестидесятые обрели свою славу…
Славу?! Режьте меня, не мог он выговорить это слово. По крайней мере, мне сказал иное (цитирую запись, сделанную тут же):