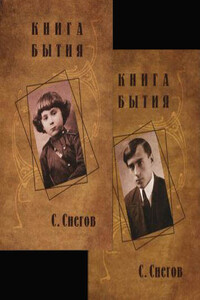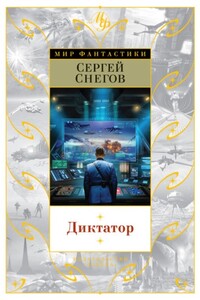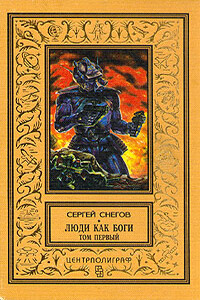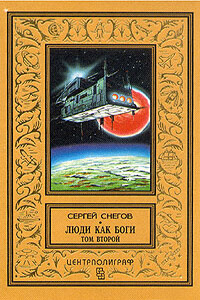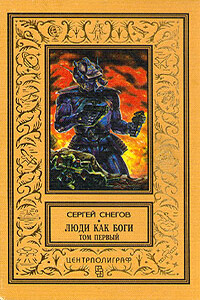Как и у всякого человека, жизнь у меня была полна важных событий: в одних проявлялся лик эпохи, они были общими для всех, я называю их своими с тем же правом, с каким песчинка, взметенная бурей, с гордостью и страхом говорит: «Я — ураган!» Другие касались только меня, проистекали из глубинной моей сути. Но все объединяла одна черта — считаю ее характернейшей из моих особенностей: видимость в них не совпадала с сущностью. То, какими они представлялись и мне, и моему окружению, разительно отличалось от того, какими они были реально. Пляска теней в кривом зеркале — вот самая точная формула моего жизненного пути.
А для любителей философии скажу по-иному: ноумен, моя жизнь (в ее истине), как-то, конечно, была связана с феноменом, ее внешним обликом, но то была связь опровержения, а не отражения. В отчаянии и ярости я часто утешал себя: видимость бытия и есть его сущность, и нечего хулить неудачно устроенное мироздание. Но такого трусливого успокоения хватало ненадолго: я все же был мыслящим человеком.
Первым важным событием моей жизни было то, что я родился.
Это произошло 23-го июня 1910 года по старому стилю, в замечательный языческий праздник Ивана Купала, когда наши предки повсюду разжигали костры и в нарядных одеждах, с венками на головах кричали и пели, прыгая через огонь и славя таким причудливым способом набравшее летнюю ярость светило.
Правда, я родился уже утром, на угасании костров, но жар их еще поныне животворит душу, и с солнцем мы старые приятели — чем его больше, тем мне добрей. Но солнца мне слишком часто не хватало. Долгие годы в полярных снегах я неустанно тосковал по нему. Рождение в праздник солнечного бога, казалось, сулило избыток света и пламени, но видимость и тут злорадно показала затылок: тьмы в моей жизни случалось больше, чем света, мороза больше, чем жары. К тому же у писца Михайловской церкви, где зафиксировали факт появления на свет еще одного раба божьего, почерк был со слишком красивыми завитушками, июнь превратился в июль, и я потерял прекрасный день рождения, получив взамен ничем не примечательное 23 июля (5 августа по новому стилю). Мать никогда не признавала злополучной описки в метрике, но паспортный режим неумолимо строг — я покорился, сохранив в себе привязанность к язычеству и тайное собратство с солнцем.
Итак, я родился. Это, пожалуй, единственное, что можно считать твердо установленным. Костры, пылавшие в ту ночь в далеких от нас тысячелетиях, и песни, доносившиеся оттуда же, не дали матери заснуть. Всю ночь она металась — начались родовые схватки. Отец работал на плужном заводе Гена, он ушел по рассветному гудку, оставив жену в муке творения новой жизни. И мать родила, едва он скрылся.
Не знаю уж, кто меня принимал, — какая-то акушерка, наверное, была. Мать говорила, что когда меня ободряюще хлопнули по попке, я не заплакал, как полагалось, а засмеялся. Этот мой первый смех — тоже одна из обманчивостей моего бытия — стал постепенно семейной легендой. С той поры меня бессчетно тузили по заду — физически и фигурально, — но способности смеяться я не потерял. Улыбка — дверь души человека, в смехе всего ярче проявляется характер. Причин для слез у меня в жизни было куда больше, чем для веселья, но на слезы я остался туговат, а смеялся часто — легко, радостно, весело, недоуменно, горько… Как когда.
Я начал с необычного — встретил жизнь улыбкой, а не гримасой. Впрочем, впоследствии необычности стали для меня обычными — так что все было в порядке.
Но я не просто родился. Я родился преувеличенный. В матери, когда я смог оценить ее рост, было около полутора метров, а весу больше пятидесяти килограммов она никогда не набирала. И такая крохотная, в общем-то, женщина выдала без долгих страданий и разрывов улыбающегося мальца ровно в тринадцать фунтов (почти пять с половиной килограммов). «Какой великан! Вот уж воистину будет богатырь!» — восхищались бабушки, дед и соседки, обманутые видимостью гигантизма. Однако даже в лучшие свои времена я не превзошел ста шестидесяти семи сантиметров, то есть не сравнялся и со среднерослым современным человеком. Голодные годы оборвали мой рост. Голова и туловище справились, ноги своего не добрали. Вряд ли между восемью и двенадцатью годами я прибавил хоть сантиметр.
Низкорослость меня не угнетала. Я мерил себя не по телу, а по духу.
Мать, разродившись, несколько часов отдыхала, а потом поднялась, оделась и села у окна, поджидая отца. Он увидел ее издали и вообразил, как всякий на его месте, что родов еще не было. Вбежав в квартиру, он схватил мать на руки и закружился с ней по комнате. Она смеялась, а он лишь после нескольких виражей вдруг с испугом осознал, что вес жены основательно уменьшился, да и габариты уже не те. Осторожно положив ее на кровать, он выхватил меня из прикрытой колыбельки и снова дикарски затанцевал — уже со мной.
Мать умоляла его успокоиться, обе бабушки негодовали — боялись, что он закружит мою нестойкую еще головку, дед сердился, а отец плясал и радостно кричал.
Мне часто описывали мое знакомство с отцом, я не мог в это не верить, но вера до сердца не доходила — очень уж властный, умный, недобрый человек, какого я знал, не походил на взбалмошного юного мужа и ошалевшего папашу, каким его дружно рисовали.