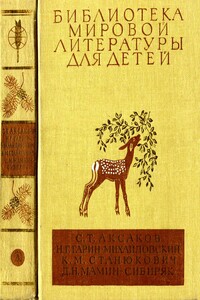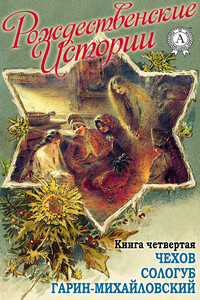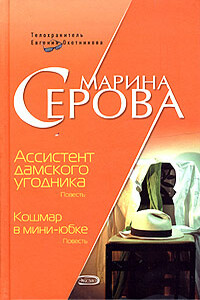I
Я только что кончил тогда и молоденьким саперным офицером уехал в армию.
Это было в последнюю турецкую кампанию.
На мою долю выпал Бургас, где в то время шли энергичные работы по устройству порта, так как эвакуация большей части армии обратно в Россию должна была и была произведена из Бургаса.
Ежедневно являлись новые и новые части войск, некоторое время стояли в ожидании очереди, затем грузились на пароход Добровольного флота и уезжали в Россию.
Эти же пароходы привозили новых на смену старым для предстоящей оккупации Болгарии.
И таким образом Бургас являлся очень оживленным местом с вечным приливом и отливом.
Как в центральный пункт, в Бургас съехались все, кто искал легкой наживы.
Магазины, рестораны процветали.
Процветал кафешантан, устроенный в каком-то наскоро сколоченном, громадном деревянном сарае.
Первое посещение этого кабака произвело на меня самое удручающее впечатление.
За множеством маленьких столиков в тусклом освещении керосина в воздухе, до тумана пропитанном напитками, испарениями всех этих грязных тел, – всех этих пришедших с Родопских гор, из-под Шипки, из таких мест, где и баню и негде и некогда было устраивать, сидели люди грязные, но счастливые тем, что, живые и здоровые, они опять возвращаются домой, – возвращаются одни с наградами, другие с деньгами, может быть, не всегда правильно нажитыми.
Последняя копейка ставилась так же ребром, как и первая… Как в начале кампании копейка эта шла без счета, потому что много их было впереди и не виделось конца этому, так теперь спускалось последнее, потому что всегда неожиданный в таких случаях конец создавал тяжелое положение, которому не могли помочь оставшиеся крохи. Для многих в перспективе был запас, а следовательно, и прекращение жалования и необходимость искания чего-нибудь, чтобы существовать.
Такие пили мрачно, изверившись, зная всему настоящую его цену, но пили.
Пили до потери сознания, ухаживали за певицами до потери всякого стыда.
Было цинично, грубо и отвратительно.
Какой-нибудь армейский офицер, уже пьяный, гремит саблей и кричит: «Человек, garcon[6]» – с таким видом и таким голосом, что глупо и стыдно за него становится, а он только самодовольно оглядывается: вот я, дескать, какой молодец. А если слуга не спешит на его зов, то он громче стучит, так что заглушает пение, а иногда дело доходит и до побоев провинившейся прислуги.
Меня в этот кабак затащило мое начальство – еще молодой, лет тридцати, военный инженер И. Н. Бортов.
Побывав, я решил не ходить туда больше.
Да и обстоятельства складывались благоприятно для этого.
В ведение Бортова входили как бургасские работы, так и работы в бухте, которая называлась Чингелес-Искелессе.
Эта бухта была на другой стороне обширного Бургасского залива, по прямому направлению водой верстах в семи от города. Вот в эту бухту я и был назначен на пристанские и шоссейные работы.
Для меня, начинающего, получить такое большое дело было очень почетно, но в то же время я боялся, что не справлюсь с ним.
На другой день, после вечера в кафешантане, я явился к Бортову за приказаниями и, между прочим, чистосердечно заявил ему, что боюсь, что не справлюсь. Бортов и сегодня сохранял тот же вид человека, которому море по колено.
Такой он и есть, несомненно, иначе не имел бы и золотой сабли, и Владимира с мечом и бантом, и такой массы орденов, которые прямо не помещались на груди у него.
Не карьерист при этом, конечно, потому что с начальством на ножах – вернее, ни во что его не ставит и, не стесняясь, ругает. Про одного здешнего важного генерала говорит:
– Дурак и вор.
Это даже халатность, которая меня, начинавшего свою службу офицера, немного озадачивала в смысле дисциплины.
На мои опасения, что не справлюсь, Бортов бросил мне:
– Но… Не боги горшки лепят. Иногда посоветуемся вместе. Пойдет.
– Но отчего же, – спросил я, – и вам, тоже еще молодому, и мне, совершенно неопытному, поручают такие большие дела, а все эти полковники сидят без дела?
– Да что ж тут скрывать, – флегматично, подумав, отвечал Бортов, – дело в том, что во главе инженерного ведомства хотя и стоит З., но он болен и где-то за границей лечится, а всем управляет Э. Он просто не доверяет всем этим полковникам. Дает им шоссе в пятьсот верст и на все шоссе выдаст двести золотых. А вот на такое дело, как наше, в миллион франков, ставит вот нас с вами. Считает, что молоды, не успели испортиться.
– И это, конечно, так, – поспешно ответил я.
– Ну, какой молодой, – другой молодой, да ранний. Отчетности у нас никакой: не всегда и расписку можно получить. Да и что такое расписка? Братушка все подпишет и читать не станет. Вот, вчера я пятьдесят тысяч франков заплатил за лес, – вот расписка.
Бортов вынул из стола кусок грязной бумаги, где под текстом стояли болгарские каракули.
– Он не знает, что я написал, я не знаю, что он; может быть, он написал: собаки вы все.
Бортов рассмеялся каким-то преждевременно старческим хихиканьем. Что-то очень неприятное было и в этом смехе и в самом Бортове, – что-то изжитое, холодное, изверившееся, как у самого Мефистофеля.
Из молодого он сразу превратился в старика: множество мелких морщин, глаза потухшие, замершие на чем-то, что они только и видели там, где-то вдали. Он напомнил мне вдруг дядю одного моего товарища, старого развратника.