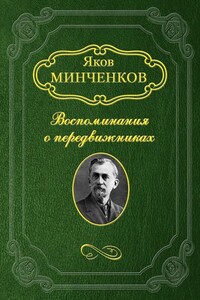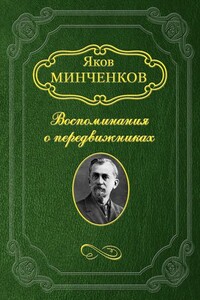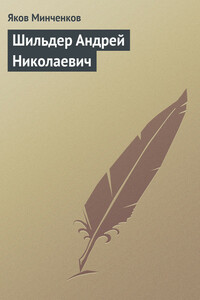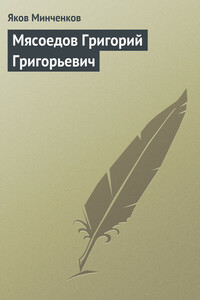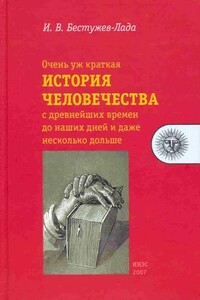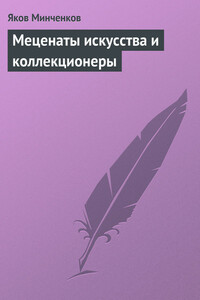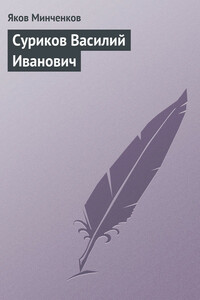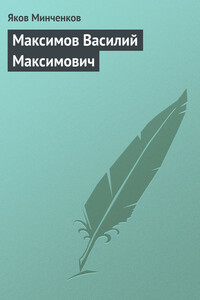Как-то Лемох, указывая на Клодта, сказал нам полушутя:
– Вы не забывайте-с, что Михаил Петрович барон, фон Юргенсбург! Так-то-с!
На это Максимов только присвистнул и ответил:
– Куда тебе! Знай наших!
Все рассмеялись, а Михаил Петрович нисколько не обиделся и смеялся вместе с нами; это был поистине самый добродушный и безобидный человек в Товариществе.
Я помню его с девяностых годов, и в продолжение двадцати лет не замечалось в нем никаких перемен. Маленького роста, сухощавый с небольшой бородкой клином, с нерешительной, качающейся походкой и речью, для которой он не сразу находил подходящие слова. Он никогда ни на кого не обижался, ни о ком не отзывался дурно, никому не причинял какой-либо обиды.
За простоту, незлобность и искренность его и любили товарищи. К экспонентам он тоже относился доброжелательно. При баллотировке не давал голоса только таким вещам, где действительно не было никаких художественных достоинств. Если же наталкивался на картину нового течения в искусстве, казалось бы для него неприемлемого, но не бьющего крайней безграмотностью, он давал за нее голос, говоря:
– Ну, что же, пускай и этот художник покажется, может, и его кто поймет. Нас ведь тоже того… не сразу, ну вот… тоже не все признавали.
За эту снисходительность его иногда упрекали:
– У тебя, Михаил Петрович, все хороши, ты вечно так.
А Клодт с особой своей манерой – как-то поддергивать усы к носу – отвечал:
– Ну вот, что ж, и вечно и вечно, какая беда?
Его картины в Третьяковской галерее – «Последняя весна», «Татьяна», «Больной музыкант», «Перед отъездом» – своим чувствительным, но искренним содержанием отвечали раннему периоду передвижничества. Когда же появились новые требования к формальной стороне искусства – Клодт со своей темной живописью показался устаревшим и затерялся на выставках. Он, видимо, махнул на себя рукой и почти перестал работать. Изредка приносил на выставку небольшую вещь, которую потом редко кто помнил даже из товарищей. Добродушнейший Михаил Петрович и к этому относился хладнокровно. От него не слыхали ни одного горделивого слова о прежних его работах, а работал он немало и пользовался в свое время успехом.
Он был сыном знаменитого скульптора эпохи Николая I, Петра Карловича Клодта, автора памятника И. А. Крылову, аничковских коней и памятника Николаю I, но это ему только вредило. Говоря о Михаиле Петровиче, в большинстве вспоминали его отца, разговор переходил на него, на его эпоху, а Михаил Петрович как-то уходил в тень.
Отец его пользовался особым благоволением царя, даже играл некоторую роль при дворе; Михаил Петрович благодаря этому стал служащим Эрмитажа, где числился, кажется, реставратором картин.
Петербург был городом, где очень много находилось таких пристаней в различного рода «обслуживаниях, хранениях», а иногда и совершенно пустопорожних областях человеческой бездеятельности.
Сколько было комиссий! Даже члены Академии художеств, наши старые передвижники, порой не знали, как им поспеть во все комиссии. На выставках они должны были присуждать премии, приобретать картины для музеев, там обсуждать какой-то проект, а в Исаакиевском соборе осмотреть мозаику и бронзовые барельефы на дверях. За передвижение от одного места до другого каждый член комиссии получал соответствующее вознаграждение. Так, за удостоверение, что мозаика в Исаакиевском соборе находится в неизменном виде и бронза на дверях поворачивается вместе с ними на роликах, уплачивалось пятьдесят рублей каждому участвовавшему в комиссии.
Не знаю, в чем заключались обязанности Михаила Петровича, но, видимо, он мог вполне существовать на получаемое в Эрмитаже содержание и не нуждался в заработке; таким образом отпадал и последний стимул, толкавший многих художников к работе.
Клодт не представлял собой яркой фигуры и был интересен лишь как маленький собирательный фокус, в котором отражалась и преломлялась петербургская чиновная жизнь, жизнь Академии художеств и жизнь его отца, связанная с придворным бытом. Он сам не принимал большого участия в этой жизни, распылялся в маленьких ее черточках, которые, лишь спаянные вместе, дают общую картину некоторых кругов.
Михаил Петрович не придавал значения черточкам из окружавшей его жизни, и от него трудно было добиться подробного и связного рассказа о ней. В его коротких воспоминаниях, как легкие тени, проскальзывали лица и события, в которых отражалась его эпоха. Короткие фразы его речи приходилось склеивать для ясного представления, а иногда даже расшифровывать, потому что для него, как коренного петербуржца, казалось ясным и не требовавшим пояснения то, что для многих было совершенно неизвестным или непонятным.
Он рос в благоприятных условиях обеспеченной семьи. Отец его исключительной силой своего таланта, не имея систематического художественного образования, создал себе положение в обществе и приобрел славу. Лошади Аничкова моста являются гордостью нашего искусства не только у нас, но и за границей, украшая площади Берлина и Неаполя. Русские путешественники, любуясь в Берлине на дворцовой площади прекрасно изваянной лошадью, часто не знают, что это повторение аничковой лошади Клодта.