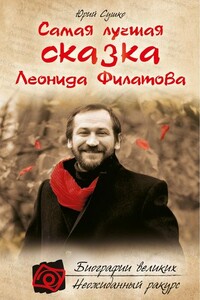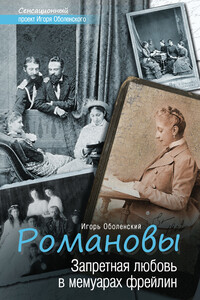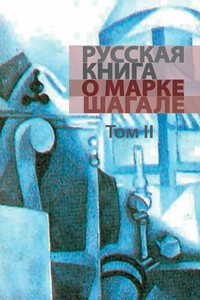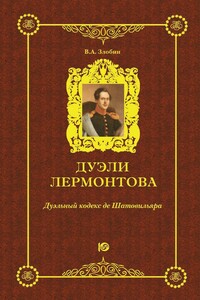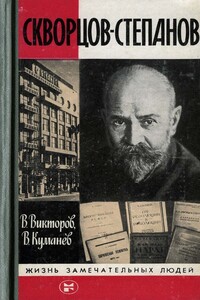…Тихий ангел пролетел. Такая редкая минута для безмятежных раздумий и вероятных откровений… Вроде бы не обращая внимания на сидящего в кресле Куприна, Антон Павлович глядел на сад, на дальние кусты, тяжелые от дождя, и, словно про себя, говорил медленно и глухо:
– При мне здесь посажено каждое дерево… А прежде здесь был пустырь, нелепые овраги, все в камнях и чертополохах. Значит, можно и такую дичь превратить в красоту. Ведь климат тоже немножко в моей власти…
Но, не закончив фразы, вдруг заторопился, принялся извиняться, прощаться с гостем: «Простите, Александр Иванович, много дел. Заглядывайте завтра…», и ушел в дом. Оставшись один, сел за стол, положил перед собой рукопись последнего варианта пьесы и без сожаления вычеркнул заключительные слова монолога Лопахина: «Сад ваш страшен, и когда вечером или ночью проходишь по саду, … кажется, вишневые деревья видят во сне то, что было сто, двести лет назад, и тяжелые видения томят их…» Потом поверх вымаранных строк мелким, аккуратным почерком вписал слова, то ли услышанные, то ли привидевшиеся ему только что там, на террасе:
«…Но ведь может случиться, что на своей одной десятине он займется хозяйством, и тогда ваш вишневый сад станет счастливым, богатым, роскошным…»
– …А вот теперь представь, моя дорогая Ева, 1897 год, жаркий июльский день… Впрочем, прости, что я говорю?!. – рассмеялась Ольга Чехова. – Как ты можешь это представить, если тебя на свете тогда еще не было. Но я все-таки надеюсь на твою фантазию и воображение… Итак, старый армянский город Александрополь. Вокруг горы… Взрослые слишком заняты гостями. Нянька Мария куда-то отлучилась. В усадьбу украдкой проникает хищный шакал, выхватывает из колыбели трехмесячного ребенка в пеленках и – ныряет в можжевеловые кусты. Если бы не верный такс Фромм, поднявший тревогу и отважно бросившийся в погоню, я не сидела бы сейчас рядом с тобой, дорогая, и не пересказывала бы это душещипательное семейное предание…
– И мир не узнал бы выдающейся актрисы Олли Чеховой, – сочувственно вздохнув, подхватила Ева Браун[1], – государственной актрисы великого Рейха. Даже представить страшно… А может быть, благодаря тому шакалу ты стала бы Маугли?..
– Кто знает… А может, в лесу мне было бы гораздо лучше, чем в доме моего отца. Он же был настоящим диктатором.
– Правда? – заинтересовалась Ева. – А кем он работал?
– Инженером-путейцем. Занимал очень крупные посты в российском царском правительстве, строил какие-то туннели на Кавказе…
– А мой, – нетерпеливо перебила Ева, – работал простым школьным учителем. Но тоже был деспотом. Представь, каждый вечер он ровно в десять выключал свет во всем доме – и все должны были отправляться спать. Потом обходил наши комнаты и проверял, спим ли мы или читаем, или, не дай Бог, болтаем между собой. Ужас…
– Знакомо, Ева. Но всё это можно просто объяснить: мой папа́ – железнодорожник, для которых главное – точное расписание движения поездов; твой – учитель, для которого также свято расписание, но только уроков, ну и распорядок дня…
Дамы дружили между собой уже более пяти лет. Познакомились совершенно случайно летом 1935 года в мюнхенской опере. В тот вечер была премьера «Тристана и Изольды» Вагнера. Ольга Чехова обратила внимание на соседку, довольно симпатичную молодую и грустную дамочку, которая не отрывала глаз от сцены, где разыгрывалась душещипательная история несчастной любви французского рыцаря и жены короля. Коллизии трагедии, видимо, настолько серьезно затрагивали чувства женщины, что она время от времени прикладывала к глазам кружевной платочек и, ни на кого не обращая внимания, чуть слышно бормотала: «Вот, все, как у меня… Долг выше чувства, да?..» Ольга склонилась к соседке и шепнула несколько утешительных слов. В антракте они уже бродили по фойе, переговариваясь о всяких мелочах.
Соседка представилась: «Ева Браун». Ольга назвала себя и тут же пожалела, ибо сразу оказалась под шквалом вопросов: «Ой, послушайте, а это не вы играли в кино «За толику счастья» и «Любовь, в которой нуждаются женщины»?.. Вы?.. Простите, я вас не узнала. Хотя там, в зале, мне сразу ваше лицо показалось таким знакомым… Скажите, а вот как…»
Ольга улыбнулась, пять лет прошло, Боже мой, как время летит.
– …Кстати, Олли, – вновь подруга перебила Чехову, – совсем забыла сказать: в четверг состоится большой прием в честь советского министра Молотова[2]. Ты его знаешь?
– Да нет. Откуда мне его знать?
– Ну, это неважно. Так вот, ты обязательно должна быть. Завтра из рейхсканцелярии тебе доставят официальное приглашение. Что ты наденешь?
– Даже не знаю… А что ты посоветуешь?
– Только не темное. Что-нибудь полегкомысленней…
* * *
Нарком иностранных дел Советского Союза Вячеслав Михайлович Молотов, крепенький и коренастый, поблескивающий стеклышками старомодного пенсне, показался Ольге чрезмерно скованным, напряженным, застывшим, словно в ожидании коварного подвоха. Гитлер же пребывал в благодушном настроении, ему было явно по душе несколько подавлeнное состояние сталинского министра. С чем он вернется в Москву? Ни с чем. Предложение немецкой стороны о присоединении СССР к Тройственному пакту отклонено, чего и следовало ожидать. А ведь это была лишь уловка, пробный шар, призванный сохранить у Кремля иллюзию последовательного стремления немецкого руководства к укреплению советско-германского сотрудничества. Сработало – и это главное.