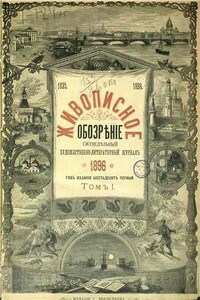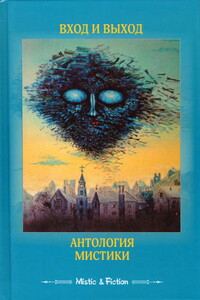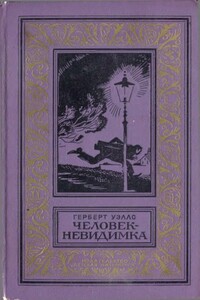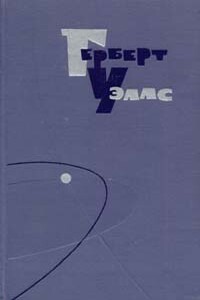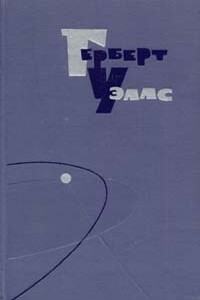Лодка подъезжала к берегу. Между выступом меловых скал обрисовалось устье речки, впадавшей в залив, и по более густой и живой зелени на ее берегах можно было следить за всем ее течением, прорезывавшим лесную чащу. Далее высились горы, белоснежные, похожие на замерзшия волны.
Море едва колыхалось; солнце так и налило с безоблачного неба. Человек, державший в руках весла, перестал грести и сказал:
— Должно быть, это самое место и есть.
Товарищ его, сидевший на корме, стал пристально смотреть на берег, сличая его с каким-то пожелтевшим чертежом, лежавшим у него на коленях.
— Подойди-ка поближе ко мне и посмотри, Эванс, — проговорил он.
Они нагнулись оба над рисунком, походившим на грубо начерченную географическую карту. Старый, загрязненный лоскут бумаги расползался уже по перегибам; чертеж, сделанный на нем карандашом, стерся отчасти, но нее же походил на очерк залива.
— Вот, — сказал Эванс, водя ногтем но рисунку, — это скалы и устье речки…
— А эти извилины означают ее теченье, — прибавил он, помолчав. — Дело ясное… Звездочка же указывает самое место… Но так ли, Гукер?
Гукер, продолжая рассматривать карту, ответил:
— Заметь, что эта линия точками идет прямехонько от скал к группе пальмовых деревьев, а звездочка поставлена именно на пересечении этой линии с рекой. Это надо иметь в виду.
— Но что это за знаки? — спросил Эванс после нового небольшого молчания. — Точно бы план какой-то постройки… но странно, что все короткие черточки и в разные стороны. Совсем непонятно… А надписи на каком языке?
— По-китайски, — сказал Гукер.
— Естественно… Ведь он был китаец, — заметил Эванс.
— И прочие тоже, — проговорил Гукер.
Оба они посидели несколько минут, смотря задумчиво на берег. Потом Энанс сказал:
— Твоя очередь грести.
Гукер сложил чертеж, засунул его в карман и взялся за весла, но работал он ими плохо, как человек, утомленный до крайности.
Эванс сидел с полузакрытыми глазами, лениво наблюдая за мелкими волнами, разбивавшимися о соседние коралловые рифы. Солнце, находившееся почти в зените, легло немилосердно. Не смотря на близость к кладу, Эванс не испытывал того восторга, которого ожидал. Возбуждение, перенесенное при недавней борьбе за чертеж, потом длинная ночная переправа в утлой лодчонке с материка к этому острову и без надлежащего запаса провизии, все это истощило его до бесчувствия ко всему. Он старался сосредоточить свои мысли на тех золотых слитках, о которых толковали китайцы, но это не удавалось ему, и он невольно думал лишь о пресной воде, которою надеялся освежить себе засохший рот и горло. Чем ближе подвигалась лодка к берегу и чем явственнее слышался всплеск воды о скалы тем сильнее разливалась тяжелая истома по всему телу Эванса; им овладело, наконец, какое-то полусонное оцепенение. Он продолжал понимать, что перед ним тот остров, к которому следовало ехать, но к этому сознанию примешивались какие-то странные образы. Перед ним возникала та ночь, в которую они с Гукером подслушали тайную беседу китайцев. Луна освещала верхушки деревьев; внизу горел маленький костер; около него виднелись фигуры трех желтолицых людей, посеребренные, с одной стороны, лунным светом, казавшиеся багровыми, с другой, от огня. Эти люди говорили между собою на ломаном английском языке, потому что были из трех различных китайских провинций с несходными вовсе наречиями.
Гукер первый понял главную суть их разговора и велел товарищу тоже прислушаться, что было довольно мудрено: некоторые слова ускользали от слуха, другие оставались непонятными, но все же было возможным уразуметь, что какой-то испанский галиот разбился здесь, плывя с Филиппинских островов, но казну его матросы успели спасти и зарыли ее на острове, с целью возвратиться после за нею. С этого начиналась история. Потом произошло опять какое-то кораблекрушение; большая часть экипажа погибла от болезней или среди драк, повторявшихся при полном отсутствии дисциплины. Под конец остававшиеся в живых вышли снова в море и отправились неизвестно куда. Зарытые сокровища так и остались на месте. За год тому назад, китаец Шанг-Ги, прибыв случайно на этот остров, напал на след клада, пролежавший в земле целые двести лет. Он скрыл от всех свою находку, но потом бежал с своей джонки, прибыл опять сюда и перенес золото на другое место. Это стоило ему невероятного труда, но он выполнил всю работу один. «И к моему кладу не подступишься теперь! Он все равно что зачарован», — говорил он. Но вырыть золото и перевезти его было уже не под силу ему одному, и он подыскал себе товарищей. Он стал показывать им свой чертеж, но голоса понизились при этом до того, что Эванс и Гукер не могли уж ничего понять. Но и сказанного было достаточна для подслушивавших беглых британских матросов.
Грезы Эванса перенесли его вдруг к тому мгновению, в которое коса Шанг-Ги очутилась у него в руках. Что значит жизнь какого-нибудь китайца в глазах европейца?.. Но крошечное лицо Шанг-Ги, сначала озлобленного, яростного, как потревоженная змея, приняло вдруг жалобное страдальческое выражение, и именно в этом виде все мерещилось оно Эвансу… Потом, оно вдруг стало усмехаться, как-то особенно язвительно, точно дразня его и угрожая ему чем-то неведомым и неизбежным. Сон становился все страшнее и страшнее: на земле лежали золотые слитки кучею, но Шанг-Ги тянул их к себе; Эванс схватил его опять за косу, но противный желтолицый стал вытягиваться выше и выше, все усмехаясь и не уступая сокровищ. Эванс тоже стал расти, но слитки вспыхнули, и какой-то бес с черным хвостом, заплетенным как коса у китайца, стал кормить Эванса горячими углями, а другой бес кричал: «Эванс!.. Эванс!.. Ты спишь, глупый человек!»