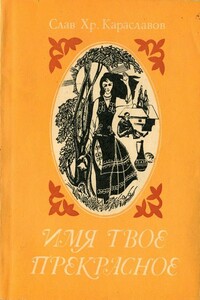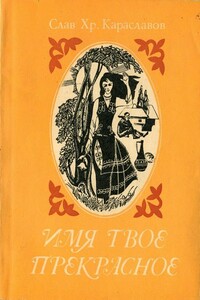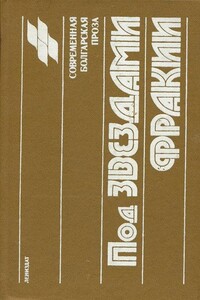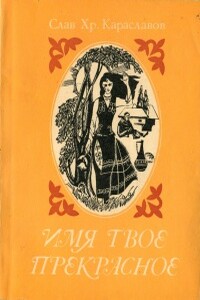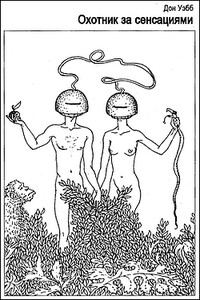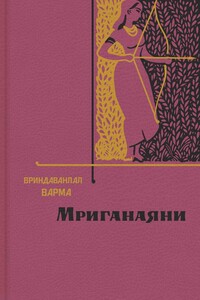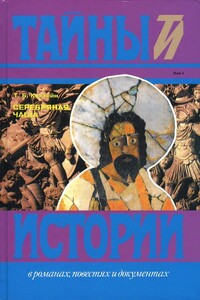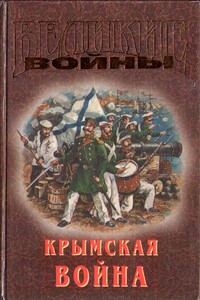В городе Солунь жил муж, благородный и богатый, по имени Лев, который занимал должность друнгария[1] и подчинялся стратигу[2] Он был благоверен и праведен, строго соблюдал все божьи заповеди, как некогда Иов. Он жил со своею супругою, и родилось у них семеро детей; седьмой, самый младший, и был Константин Философ, наставник наш и учитель.
Из «Пространного жития Константина Философа», IX век.
Родиной нашего преподобного отца Кирилла был город Солунь. По национальности он был болгарин. Его родители были благоверными и благочестивыми людьми, отца авали Лев, мать — Мария. Они были богатыми и в городе самыми знатными.
Из «Успения Кириллова».
Наверное, вы хотите знать, кто эти отцы? Это Мефодий, который прославил Паннонскую епархию, став архиепископом Моравии, и Кирилл, который был знатоком древней философии, паче всего христианской, и понимал природу вещей, истинно существующих.
Из «Жития Климента Охридского».
Константин похудел в дороге. Борода выгорела и побелела от неистового солнца, руки, потемневшие и беспокойные, держали позолоченный Коран. Он присел на мраморную скамью с грифонами, и взгляд его устремился к противоположному берегу Золотого Рога. Стоило закрыть глаза — и перед мысленным взором тянулись пыльные дороги, шагали верблюды с мерно качающимися горбами, отодвигалась линия горизонта, изгибались ленивые тела рек, всплывали, как миражи, города, пронзавшие небо остриями мечетей, и надо всем этим — усталость, расплавленным свинцом заполнившая жилы. Словно со стороны он видел самого себя в пыли с головы до ног, обожженного знойным сарацинским солнцем, его губы слипались, как листья смоковниц, поймавшие скудную влагу страшного лета, а душа искала покоя небесных селений. Во имя всевышнего пошел он воевать за очищение душ человеческих... Но только ли во имя бога?
Философ отправился в путь по поручению императрицы Феодоры и ее несовершеннолетнего сына Михаила, чтобы смутить поклонников Магомета истинным словом: проникнуть в поганое, враждебное логово багдадского халифа Джафара аль-Мутаваккиля. Предшественники халифа, Мутасим Билла и Гарун аль-Васик, угнетали и мучали христиан, грабили пограничные города, издевались над беззащитным крестом господним и с фанатичной злобой утверждали гордыню душ своих, истребляя последователей Христа. Сколько битв, сколько пролитой крови помнит пограничная полоса! Сколько походов во имя империи! Сколько слез — пролитых от боли и бессилия! И все еще не устали две веры воевать за превосходство, два народа делить землю на свою и чужую. Во времена Мутасима Биллы его войска нападали на Аморий и Фригию, и кровь христианская потоком лилась всюду, где они проходили. Под его саблями пали члены императорской семьи, интересы которой представлял теперь молодой философ. Один лишь бог ведает, сколько пленников нашли свою смерть в холодных темницах халифов! И когда в их владения послали философа, то послали его для того, чтобы испытать оружие слова, силу убеждения, благословенное божье учение. Но небесный судия не отвратил взора от земной вражды. В одном и том же году он остановил дыхание обоих врагов — императора Феофила и Мутасима Биллы, — но вместо того, чтобы извлечь из этого урок, их наследники снова взялись за оружие. Гарун аль-Васик вывел из темниц сорок два пленных византийских военачальника и мартовским днем принес их в жертву своей неукротимой злобе. Видно, это возмутило небо, объединяющее землю и людей, и оно обрушило кару на недостойную голову. Коварство, угнездившееся в сарацинских душах, разрослось, как буйный сорняк, и еще один халиф, отравленный, нежданно расстался с жизнью. В восемьсот сорок седьмом году на багдадский трон сел Джафар аль-Мутаваккиль. Четыре года логофет[3] Феоктист и кесарь[4] Варда, ближайшие доверенные императрицы Феодоры и несовершеннолетнего наследника Михаила, пытались разгадать намерения нового халифа, но тщетно. Эта неизвестность пугала больше, чем если б он поднял окровавленный меч своих предшественников. При нем, однако, внезапные налеты на византийские земли чередовались с мирными днями, сулившими успокоение. Потому-то сон правителей Константинополя тревожил страх: а вдруг новый халиф тайно готовится к большому походу? И решили они послать к нему молодого философа Константина, непобедимого в диспутах, — испытать красноречие и гибким умом проникнуть в намерения халифа. В свите Константина был один из довереннейших людей императрицы, Георгий, муж ее племянницы. Константин был моложе Георгия и происходил из менее знатного рода, но миссию доверили ему, ибо он должен был представлять ученый мир империи. Георгий же был глаза и уши тех, кто остался в Царьграде. Константин понял это, но поначалу не обеспокоился. Он жаждал диспутов, горел желанием помериться умом и силой духа, доказать превосходство учения, которое защищал и которое преподавал в Магнаврской школе. Георгий был ему нужен. Он взял на себя хлопоты и заботы о питании путешественников. Константин мог поэтому полностью погрузиться в свои дела и мысли. Во время отдыха у больших рек или мелководных речушек он смотрел на воду и берега и думал, как в результате их непрестанного противоборства образуется множество излучин, и крепла в нем мысль, что прямых путей нет: даже самая мощная река делает повороты, что же тогда говорить о человеке. Эта мысль должна определять его поведение у сарацин, лечь в основу диспутов и споров. Во имя своей правды он будет искать пути к победе, даже если они окажутся извилистыми, как стебли плюща. Благодаря гибкости молодой философ всегда выходил победителем. В глубине сознания ярко вспыхнули отдельные мгновения диспутов, лица, перекошенные гневом и бессилием, глаза, полные ненависти, вызванной его торжеством. Он припомнил встречу в Самарии. Толпы мусульман-фанатиков, базары, заваленные фруктами и кишащие мухами, невероятное убожество и поразительная пышность, и среди кричащих контрастов — безмятежные сады халифа с фонтанами и золотыми птицами, покои, полные драгоценнейших камней и изделий из металлов — той роскоши Востока, которая образовалась в результате грабежей и суетной привычки копить на бренную жизнь. Острые, хитрые глаза сарацин, спрятанные под низко опущенными веками, глаза врагов, подсматривающих из-за белых колонн дворцовых портиков. Бороды до пояса — знак поседевшей в невзгодах мудрости; губы, растянутые в снисходительной улыбке; толстые пальцы, перебирающие солнценосные янтарные зерна четок — кажется, будто крупные капли срываются с безобразной губы уставшего верблюда. И первый вопрос: