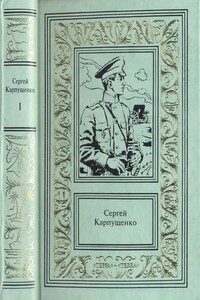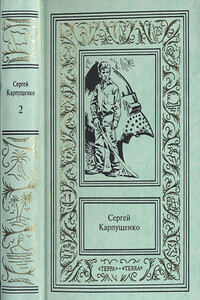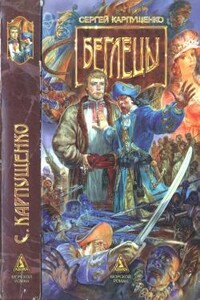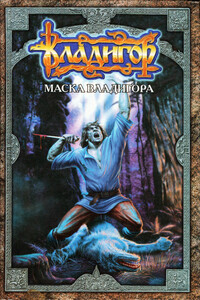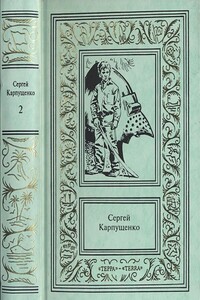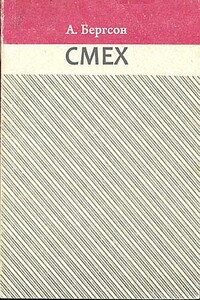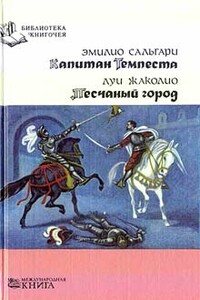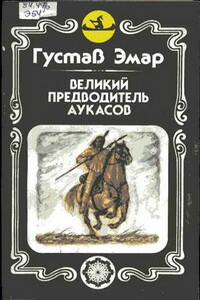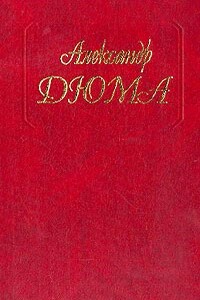В Петрограде 27 ноября 1916 года было морозно и сухо. Те из обитателей сводного эвакуационного госпиталя, кто смог подняться с постели и подойти к окну, смотрели на розовую брусчатку мостовой, чисто выметенную, горделиво-столичную, по которой проходили никуда не спешащие обыватели, проносился порой весь в клубах сизого дыма сияющий лаком и никелем автомобиль, прогромыхивал экипаж лихого петроградского «ваньки», никогда не останавливавшегося возле здания Училища правоведения, где размещался госпиталь. Через плохо вымытые стекла они смотрели на заждавшийся снега город, остуженный осенними ветрами, кое-кто улыбался, видя несущихся по улице гимназистов с развевающимися башлыками, плюющих на приличия и не желающих соблюдать благочиние. Лотошник в картузе проносил свой незатейливый товар на лотке, подвешенном на шее, – крендельки овсяные, гречишные, ячменные. Размахивая кипой газет, пробегал мимо окон орущий мальчишка. Пускали облачка сигарного дыма и постукивали бронзовыми наконечниками тростей респектабельные горожане, и каждый из стоящих у окна знал, что никто в холодном этом городе даже не подозревает о их существовании, что они никому не нужны и о них все забыли, потому что воюющей державе нужны здоровые мужчины, способные воевать, работать, разносить газеты с сообщениями о положении на фронте, продавать овсяные крендели, чтобы работающие на армию могли укреплять свое тело или хотя бы прогуливаться, как эти господа, постукивая тростями, и рассуждать о том, как много шансов осталось у России для победы над Германией.
Но они ошиблись – их не забыли. Вечером в госпитале устраивался благотворительный концерт, ожидались важные гости, поэтому еще до обеда все помещения стали тщательно мести, проветривать, уничтожая запах опрелой кожи, нечистого белья, застарелых, гноящихся ран. Сестры спешно занимались перевязкой. Меняли бинты даже у тех, кого перевязывали совсем недавно. Потом сестры бегали с кипами белья, нательного и постельного, помогали тяжелораненым переодеваться, заменяли, где нужно, простыню или наволочку. Ждали посещения членов августейшей фамилии. Старший врач с озабоченным лицом бегал из палаты в палату, заглядывал в тумбочки, под кровати, матерно ругал санитаров и под конец распорядился перемыть ночные вазы, признав их источающими зловоние, и еще раз протереть полы раствором хлора. Бедные измученные сестры носились по госпиталю, наводя порядок, не успевая ухаживать за ранеными. Потом в палатах появились санитары, держа под мышкой государственные трехцветные флаги, и, поддерживая друг друга, стали взбираться на тумбочки и укреплять флаги над входами в палаты.
Концерт был назначен на шесть пополудни в бывшем рекреационном зале училища, довольно просторном, но холодном, с белым лесом мраморных колонн, высящихся вдоль стен. Стулья и диванчики для ходящих санитары и сестры расставили там заранее, оставив место для коек тяжелораненых, но только для тех, кто сам изъявил желание поглядеть на артистов, – никого не принуждали. В госпитале было несколько умирающих. Их отнесли подальше, в дальние углы палат, оставив у постели каждого сестру или санитара на дежурстве.
Незадолго до приезда гостей по палатам прошел старший врач, уже не в халате, а в мундире и при шашке. Обратился к раненым тревожно-радостным голосом:
– Веселей, веселей смотрите, господа! Сами их императорские высочества великие княгини и великий князь соизволили посетить наш госпиталь, дабы личным участием к судьбе русского солдата засвидетельствовать свое сочувствие вашим подвигам и ранам. Веселей смотрите, прошу вас, господа!
И раненым нравилось, что называли их господами, потому что в дни обыкновенные именовал их старший доктор лишь братишками, а иногда и просто хамами – лежали в госпитале нижние чины по большей части. Когда врач ушел, сестры стали выводить раненых в рекреационный зал, по-праздничному освещенный, откуда уже доносились пиццикато скрипок готовящегося к игре оркестра. Больные, кто мог, входили в зал без помощи сестер, другие опирались им на плечи. Шли медленно, стыдливо запахивая на груди серые больничные халаты, сконфуженно косились на приодетых артистов, сгрудившихся в противоположном конце зала. Артисты же, среди которых были солисты императорской оперы Калинина, блиставшие в ту пору на сцене Смирнов и Коваленко, широко открытыми глазами смотрели на входящих в зал воинов. Раненые шли, постукивая о пол костылями и палками, тяжело опирались на них. Многие глухо кашляли по причине разъеденных хлором легких. Туго обмотанные бинтами головы, руки, ноги. Раненые медленно входили в зал, поддерживаемые сестрами, которые в эту минуту всем своим видом старались выразить особое сочувствие. Они с трудом садились на приготовленные для них места и клали свои костыли прямо на пол. Потом санитары стали вносить койки с лежачими больными. Раненые только поворачивались в сторону собравшихся гостей, но им словно тут же становилось совершенно неинтересно смотреть на артистов, и они отворачивались. Оркестр поднялся. Калинина и артистка балета Преображенская заплакали навзрыд, и кто-то пронзительно, срывающимся на плач голосом крикнул: