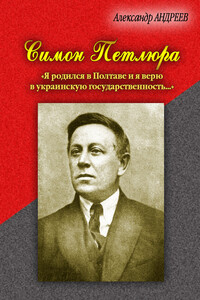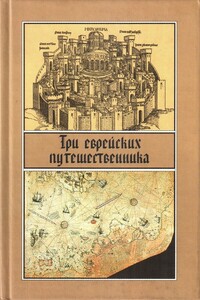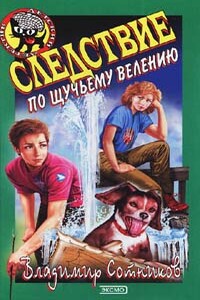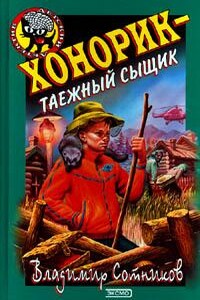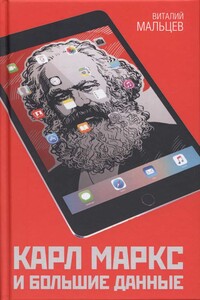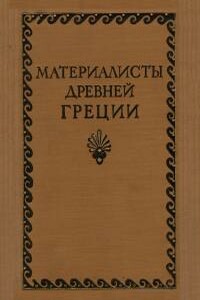Человек — это существо, которое, во-первых, по определению имеет идею целого и даже слова для выражения этой идеи — to pan, Universum, das All, «мироздание» и прочая, и притом так, что его человеческая сущность радикально обусловлена серьезностью, каковую эти слова и эта идея для него имеют; а во-вторых, тоже по определению, не может этого целого — знать, т. е. сделать предметом информации именно как целое. Человек обречен одновременно знать только части целого, «знать отчасти», как выражается апостол Павел (1 Кор. 13:12) - и быть с несомненностью извещенным, что целое есть и что только внутри целого части обретают подлинный, достойный человека, т. е. выходящий за пределы утилитарности смысл. Океан для рыбы и лес для зверя - «среда обитания», другая живая тварь для них же - корм, пища, и в их неповинном мире все это правильно и непостыдно; но хотя и человек искони «промышляет» и с океаном, и с лесом, и с живыми тварями, для него абсолютизация утилитарной установки не может быть невинной: поэзия, а затем и философия твердят ему, что «немолчно шумящее море», помянутое Гомером, - не просто торговый путь, а стихия, соотнесенная с тем, для чего любомудры придумали странные слова: «космос», «универсум». Руссоистской сентиментальностью в отношении природы ни у Гомера, ни у древних философов и не пахло. Какая тут сентиментальность? Ум человека мыслит целое как мыслительный, вовсе не сентиментальный императив. Целое уму вполне объективно «задано». Однако оно ему не «дано».
Это значит, что человек есть необходимым образом homo credens, существо верующее.
Его сомнения, его бунт против веры остаются родом отношения к вере: положим, отношения дисгармонического, мучительного, отягощенного виной перед запредельными инстанциями, однако же кровного (как кризисы в отношении подростка к родителям могут оставаться проявлением его «экзистенциального» статуса сыновности). Или они перестают быть таким отношением, вырождаясь в пустую негацию; но тогда, увы, и он перестает быть человеком, становясь - чем, собственно? Как назвать это существо, у которого вместо умозрения - встроенный в его "я" компьютер, и даже вместо пола (скажем, в розановском смысле слова) - что-то, неспроста называемое и по-русски, и по-немецки иноязычным, т. е. как раз бесполым, словом sex? («Сексуальная революция» - революция, собственно, против пола, т. е, против права человеческого естества что-то значить и означать, быть «значительным» в контексте целого). Но это а propos. Вернемся к дефиниции человека как существа верующего.
Не нужно думать, будто она касается особой сферы, именуемой «религией» (как будто «религия» существует как еще один «item» наряду с прочими «items», как-то этикой, эстетикой, социальной жизнью, и прочая, и прочая...) Отнюдь нет. Только чисто технические решения могут приниматься на научной основе формализованного обоснования. Человеческая жизнь, достойная того, чтобы ее прожить, как говорили древние, - необходимо включает акты жизненного выбора, основанные на доверии от человека к человеку; а доверие может иметь мотивы, подчас в определенной мере рациональные (каковы и некоторые теологумены), а подчас чисто «интуитивные», но не может быть от начала до конца мотивировано сводящим концы с концами формализованным расчетом.
Может быть, мы, выраставшие в атмосфере тотального доносительства, еще при Сталине, знаем об этом «шкурой» немного больше, нежели иные прочие. С раннего детства известно: разговаривая откровенно, рискуешь погубить себя и близких; но если вовсе не будешь доверять никогда и никому - печальное решение, которое принимали многие, - засадишь собственную душу в такое пожизненное одиночное заключение за незримыми стенами, которое пострашнее эвентуальных государственных репрессий. Ошибка, роковая ошибка, возможна; но отказаться от доверия - отказаться от жизни. Вот пари, не хуже того, о коем трактуется у Паскаля!
Но ведь и в иных обстоятельствах отношения, принимаемые всерьез, - скажем, дружба и брак, достойные этих имен, - предполагают сходный акт выбора. Я доверяю ему и решаюсь принять его как моего друга. Я доверяю ей и решаюсь принять ее как мою невесту. В обоих случаях я что-то, конечно, знаю о человеке, может быть, не так мало знаю; но ведь всегда мое знание - Павлово «отчасти». А ведь принимаю-то я человека не «отчасти», а как целое, «всецело», «целокупно». И существенно тут не столько количество сведений друг о друге (как его понимает, скажем, всяческая Intelligence Service, самое имя коей звучит столь «интеллектуалистично»), сколько совсем иное - посмотреть друг другу в глаза. Иначе доверие называлось бы не доверием, а как-то иначе.
От таких актов выбора зависит, худо-бедно, моя жизнь во времени, на те считанные десятилетия, что мне суждено прожить. Но есть другое решение, от которого зависит нечто невообразимое, непредставимое, а именно, моя судьба в вечности: посмотреть в глаза Ему и принять Его, «яко Царя и Бога».
И, что, может быть, еще труднее, - как Друга.
«Я назвал вас друзьями» (Ин. I 5:1 5).
Если бы мы знали все, имели всю полноту информации обо всем, о целом, нам ничего не оставалось бы, как принудительно принять царственность Царя и божественность Бога, принять как факт. Согласно апостолу Иакову, в таком положении обретаются бесы, которые «веруют, и трепещут» (2:19). И не хотели бы, а веруют. Против факта не попрешь.