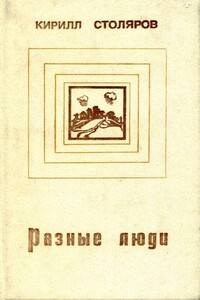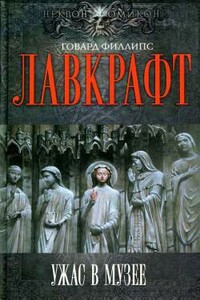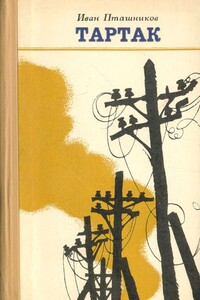— Боже мой, какой кошмар! — сокрушался Игорь Петрович, сидя на нарах, держась за голову и раскачиваясь в бессильном отчаянии. Он, интеллигентный человек, врач, кандидат наук, оказался на самом дне — в тюремной камере. И тюремщики специально посадили Игоря Петровича с этими типами, чтобы сломить его волю и добиться столь нужного им признания. Но он не поддастся! Нет!
Игорь Петрович перестал раскачиваться, сел прямо и незаметно взглянул на соседей. Ну и типы, нарочно не придумаешь! А рожи, рожи-то у них какие! Ужас! Вон напротив, у окна, не мигая уставился в одну точку убийца Седенков. Тупое лицо со скошенным лбом без единого признака мысли, короткопалые руки с волосатыми фалангами и квадратными загнутыми ногтями! Типичные руки душегуба! Такой бандит ночью прикончит соседа по нарам и заснет как ни в чем не бывало. Что ему за это будет? Ничего! Его так и так должны расстрелять, семь бед — один ответ! Прошлой ночью, когда Седенков зашевелился у себя наверху и упруго, точно большая кошка, спрыгнул на пол, Игорь Петрович сжался в комок и приготовился защищаться до последней капли крови, но все обошлось. Седенков пошел в угол к унитазу, а потом так же по-кошачьи прыгнул на нары.
Игорь Петрович скосил глаза влево и увидел Хамалетдинова, как изваяние застывшего у окна в позе орла. Угрюмый татарин напомнил ему царя пернатых не только этой позой, но и величавой «неподвижностью. Бесстрашное бронзовое лицо Чингисхана, платиновый блеск седой шевелюры и мертвые зрачки, смотревшие вперед. Если что-либо привлекало внимание Хамалетдинова, он сразу поворачивал голову на сорок пять или же на девяносто градусов. Посмотрит секунду и тут же вернет голову на место, в первоначальное положение. Точь-в-точь как орел. И молчит Хамалетдинов, как форменный истукан. С таким встретишься с глазу на глаз в темном переулке, так сам за милую душу отдашь часы и кошелек!
Игорь Петрович в ужасе закрыл глаза и громко застонал. Сидевший рядом Перчик отложил в сторону старую газету и подозрительно уставился на Обновленского.
— Что с вами, Игорь Петрович?
— Душно, Аркадий Самойлович, дышать нечем, — пожаловался Обновленский, подавленный, кроме всего прочего, густым запахом остывшего табачного дыма, человеческих испражнений и потеющих ног. — Нельзя ли открыть форточку?
— Нельзя, — ласково ответил Перчик. — За это, мон шер, дают пять суток карцера.
— Почему? Для чего же тогда сделана форточка?
— Чтоб вы знали, Игорь Петрович, если очень захотеть, то через форточку можно переговариваться с теми, кто сидит в соседних камерах, — объяснил Перчик. — А администрации следственного изолятора, сами понимаете, это не по душе.
— Но, согласитесь, духота невозможная.
— Придется терпеть, — утешил Перчик. — По расписанию в десять у нашей камеры полуторачасовая прогулка, вот тогда подышите чистым воздухом, а цирик тем временем проветрит камеру.
— Простите, как вы сказали?
— Цирик, — повторил Перчик и сочувственно улыбнулся Обновленскому. — Так у нас, чтоб вы знали, называют надзирателя... Изолятор — это особый мир, Игорь Петрович, здесь все не так, как на воле. И язык тоже особый. Вообще-то надзиратели официально именуются контролерами, что, сами понимаете, звучит приличнее, но...
Обновленский провел свою первую ночь в камере и ничего не знал о здешнем быте. Да и откуда ему было знать, если еще сутки назад он ни сном, ни духом не ведал, что окажется за решеткой? Неприятности, правда, начались еще в августе, но кто тогда мог подумать, что он попадет в следственный изолятор?
Все началось с обыкновенной милицейской повестки. Его вызвали на допрос. Допрашивал мальчишка-лейтенант с короткими усиками.
— Игорь Петрович, у меня к вам всего один вопрос, — сказал он после того, как заполнил бланк протокола с анкетно-биографическими данными свидетеля и под расписку предупредил Обновленского об ответственности за дачу ложных показаний или за отказ от дачи показаний. — Часто ли вы берете с больных деньги за производство абортов?
— Никогда такого рода делами не занимался, — твердо ответил похолодевший Обновленский и тотчас достал из кармана пачку сигарет «Кент». — Э, у вас курят?
— Пожалуйста, курите. — Лейтенант пододвинул к нему мятую пачку «Краснопресненских» и продолжал писать.
— Благодарю, предпочитаю свои, — сказал Обновленский, щелкая японской зажигалкой «Принц».
— Значит, денег ни разу не брали? — переспросил лейтенант. — Так и писать, Игорь Петрович?
— Так и пишите, товарищ лейтенант.
Деньги Обновленский, разумеется, брал, причем делал это многие сотни или даже тысячу раз. Все берут. Вымогательством он никогда не занимался, об этом не могло быть и речи, но если люди сами дают и к тому же просят, чтобы он взял деньги, то почему, собственно, не брать? Не на облаке живем и не в безвоздушном пространстве, а в суровых условиях денежного обращения. Если, скажем, обладающая достатком женщина хочет, чтобы ей сделал аборт талантливый хирург-гинеколог с ученой степенью и обширной практикой, а не какой-то дежурный коновал с руками холодного сапожника, что в этом плохого? Ровным счетом ничего. Игорь Петрович со спокойной совестью брал деньги за свой труд, знания и, если хотите, за мастерство, и никто от этого не страдал — ни другие врачи, ни больные, ни государство. С точки зрения врачебной этики это выглядело, конечно, не лучшим образом, но этика — штука растяжимая и к милицейскому аппарату прямого отношения не имеет. И милиционеры тоже хороши— теряют время на ерунду, отвлекаясь от действительно важных проблем беспощадной борьбы с преступными элементами, раздраженно думал Обновленский, с растущей неприязнью рассматривая склоненную над протоколом голову следователя.