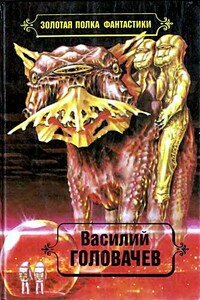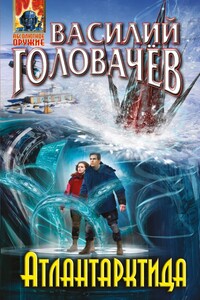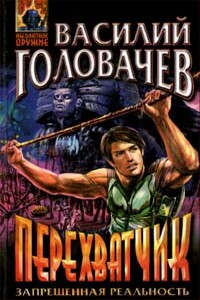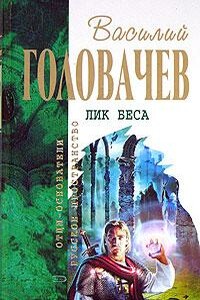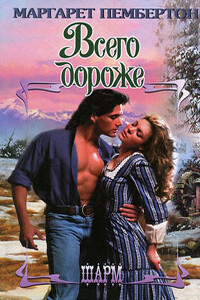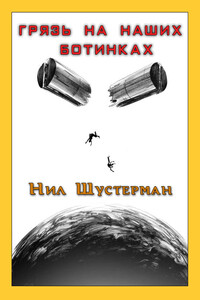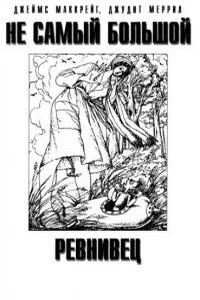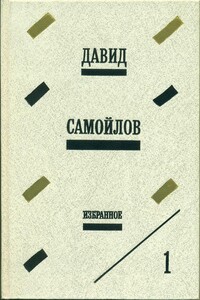В мягкой фиолетовой полутьме ее лицо словно светилось изнутри розовым светом, и необычным казался его овал в черной волне ощутимо тяжелых волос. Странным было лицо, безжизненным, одно выражение застыло на нем — безнадежность. Может быть, темнота глаз скрывала и боль ее, и слезы, но слова были резкими, твердыми и беспощадно чужими. Жестокие слова, от которых замерло движение в воздухе и повеяло холодом… И Филипп сказал почти равнодушно, чтобы прервать этот разговор, чтобы ей было легче — он еще не понимал до конца, не хотел понимать, что она уходит, — чтобы тяжесть вины — да и была ли она виновата? — легла на двоих:
— Хорошо, не будем больше об этом.
Аларика облегченно вздохнула, вскинула голову и снова опустила, теперь уже виноватым движением. И было в этом жесте то, чего больше всего не понимал Филипп, — неуверенность. Непонятный получался разговор: говорила она прямо и энергично, но неуверенными выглядели жесты, неуверенностью веяло от всей ее отрывочной речи.
Молчание заполнило комнату: она не знала, что делать дальше, он пытался понять, почему оказался в таком положении. Почему? Десять лет детской дружбы, десятки ссор и примирений с помощью друзей — оба упрямы и горды, — и любовь… Любовь ли? Может, не было любви?
— Прости, — сказал он, с трудом шевеля губами. — Я, наверное, от природы инфантилен и не могу понять, что происходит. Объясни мне, наконец, это что, так серьезно?
Аларика судорожно кивнула. На слова не хватало сил, а еще она боялась, что решимость ее угаснет совсем и эта агония их любви, которой он не хочет замечать, продлится еще долго, долго…
— Я тебя всегда понимал с трудом, — продолжал Филипп, все еще на что-то надеясь. — Наверное, я слишком медленно взрослею. И все же… вот ведь парадокс — я тебе не верю!
Он подождал несколько секунд, всматриваясь в ее лицо, ставшее вдруг чужим и далеким, и рывком выбросил свое сильное тело из кресла.
— Что ж, прощай. Что еще говорят в таких случаях? Желаю удачи и счастья.
Прошагал до двери, оглянулся, ничего не увидев, и вышел. И только за сомкнувшейся дверью ощутил в груди странную сосущую пустоту, холодную, как ледяной грот, и понял, что это действительно серьезно, серьезней не бывает, и ему до боли в груди захотелось броситься назад, стать на колени и пусть даже не видеть ее, только чувствовать рядом, ощущать ее тепло, дыхание… Но вернуться было уже невозможно, стена там выросла, толстая стена из двух слов: «Люблю другого… Люблю другого! Люблю другого!!» Когда она успела? И кто он, покоривший доселе независимый ее характер? Или это всего-навсего слова, проверка чувства?.. Нет, не может быть! Так жестоко шутить она не способна. Значит, на самом деле существует этот третий, замкнувший тривиальный треугольник! И не поможет никто. Никто! Потому что это, наверное, единственный случай, не подвластный даже аварийно-спасательной службе, когда — человек, помоги себе сам!
Кто-то прошел по коридору. Филипп открыл глаза…
Филипп открыл глаза и виновато улыбнулся, все еще пребывая во власти воспоминаний. Рядом с пультом вычислителя стоял Травицкий и смотрел на развернутый объем мыслепроектора, перебирая на груди пухленькие пальчики. Метровый куб проектора был заткан цветами, и в его глубине в раствор стационарной ТФ-антенны[1] было вписано лицо Аларики.
— Извините, — пробормотал Филипп, стирая изображение. — Задумался…
Травицкий грустно покивал.
— Я не удивляюсь. Привык. У тебя, кажется, завтра ответственный матч?
— Финал Кубка континентов, — сказал Филипп, не поднимая глаз.
Зачем я только пришел сюда сегодня, подумал он, все равно от меня толку, что от козла молока. У Травицкого и без меня забот хватает. Надо же, размечтался с эмканом на голове! Аларику нарисовал… Почему я вспомнил о ней? Согласно всем нормам психомоделистов я должен сейчас думать только об игре. Или перегорел? Нет, просто запретил себе думать об игре. А на Аларику, выходит, запрета не хватает. Слаб ты еще, Филипп Ромашин, конструктор, спортсмен и так далее…
— Иди отдыхай, — посоветовал Травицкий. — Эту конструкцию, — он кивнул на пустой объем мыслепроектора, — списываю только за счет твоего волнения. На твоем месте я слетал бы куда-нибудь один, например, в музей истории. Кстати, у меня к тебе один не совсем обычный вопрос: не замечал ли ты каких-нибудь поразивших тебя явлений?
— Что вы имеете в виду? — озадаченно спросил Филипп.
— Ну… что-нибудь странное, экстраординарное, выходящее за рамки обыденности, ранее не встречавшееся…
— По-моему, нет, не встречал. А может, не обращал внимания?
— Так обрати. — Травицкий кивнул, погрустнев еще больше, пожелал удачи и вышел. Маленький, круглый, грустный. Начальник конструкторского бюро, лучший специалист Института ТФ-связи.
Филипп снял с головы корону мыслеуправления, называемую в быту эмканом, постоял у пульта, размышляя о своих отношениях с людьми, которые понимали его больше, чем он сам. Начальник бюро Кирилл Травицкий… человек, вырастивший из него конструктора-функционала, никогда не высказывающий недовольства его постоянными увлечениями, капризами… волейболом, наконец. Хотя волейбол не увлечение и не каприз, это жизненно важная потребность, без которой нет смысла в слове «спорт». Как их совместить — работу в Институте, требующую постоянных занятий, и большой спорт, требующий полной самоотдачи? Как совместить несовместимое?