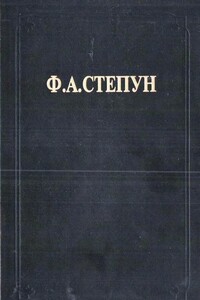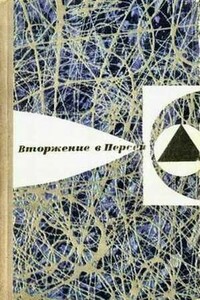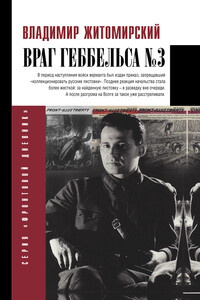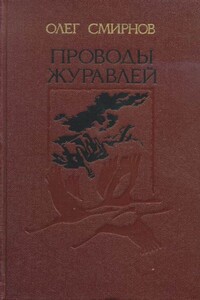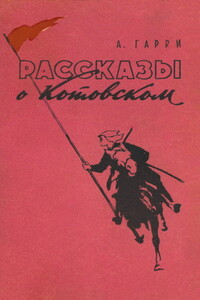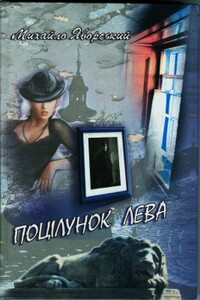К матери. 12-го сентября 1914 г. Иркутск.
...Ты, конечно, страшно огорчаешься, что я так мало пишу. Каюсь очень, но писать страшно трудно. Наша служба усерьезилась. Вставать приходится в шесть. На обед вместо трех часов теперь полагается два. А езды с батареи домой и обратно шесть верст. Дорога ужасная: бесконечные дожди и глинистая почва. Домой приезжаю поздно, в семь вечера, усталость испытываю эпическую. В последние дни я уже в девять ложился спать. На днях был дежурным, должен был два раза в сутки объехать верхом посты и караулы всех батарей. Один объезд разрешается дневной, другой предписывается ночной. Расположены батареи на большом пространстве друг от друга, по кругу будет верст двенадцать. Кроме того, в ночь моего дежурства на берегу Ангары был убит солдат, а в городе тревожный набат оповещал о пожаре. Я качался в седле, разыскивая убитого и поверяя караулы с одиннадцати вечера до пяти утра, и это после того, что я уже днем ездил с четырех до восьми.
Переношу я все это с абсолютной легкостью. Верховая езда, даже и при этих условиях, доставляет мне большое удовольствие. Как хорошо, что ты возлюбила цирк, когда я должен был появиться на свет Божий, и как хорошо, что я в свое время служил в артиллерии. Эти два обстоятельства делают для меня настоящую жизнь не только терпимой, но в известном смысле даже и приятной.
Но была у меня и одна забавная неприятность: за «бестактный» ответ и «развращающую армию» улыбку я был посажен после смотра на сутки под арест. Из этого сообщения ты не заключай, что я особенно скверныйофицер, или что у меня плохие отношения с сослуживцами и начальством. Напротив, офицер я приличный, все больше вхожу в службу, отношусь ко всему, не в пример лагерному сбору, серьезно и внимательно и стараюсь вполне приготовить себя к топ тяжелой и ответственной роли, которая может в наши дни выпасть каждому из нас на долю. Отношения же с сослуживцами и непосредственным начальством у меня прекрасные. Что же касается упомянутого случая, то мою участь разделил со мною и мой батарейный командир, ибо... но ибо на ухо.
Странная и совсем непонятная вещь война. Мы готовимся к выступлению, а временами кажется, что организуется пикник. Вчера офицер, заведующий у нас в батарее хозяйством, ездил в город и закупил разных вещей для похода: чайник, сахарницу, ножи, вилки, кружки... Привез все — радуется, — хорошее все, новое, блестящее, практичное... Он радуется, и мы радуемся. Для чего все это — мы знаем, но зная — не понимаем, и силясь понять — понять не можем.
Иногда по вечерам мы с Андреем Викторовичем занимаемся артиллерийской премудростью: то вычисляем математические формулы, углы, базы и кривые, то упражняемся практически. Я изображаю орудие, а он зарядный ящик, и вот мы крутимся по комнате, исполняя всевозможные повороты, отъезды и подъезды. Он стриженный машинкой, я коротким бобриком, какой носил в школе, оба мы без поясов, в ночных туфлях... Наташа сидит и хохочет, говоря, что мы похожи на маленьких мальчиков, играющих в лошадки, — мы тоже хохочем, хотя и знаем великолепно, что все наши опыты и размышления направлены на то, как бы найти систему таких умений и приемов, при осуществлении которой застонут и закричат одни люди, называемые немцами, и не застонут и не закричат другие люди, которые называются русскими.
Бывают, конечно, минуты, когда ужасный смысл написанной мною фразы воистину понимается, но такие минуты очень редки.
Обыкновенно же последняя цель и сущность войны совершенно так же заграждается и оттесняется целым рядом предпоследних мыслей, действий, событий и мероприятий, как ими же и в мирной жизни заграждается и оттесняется все то, что есть Жизнь жизни, ее последнее и сущностное ядро.
Ужасна война, как материальный факт — как ряд стонов, криков, скрежетов, как миллионы открытых кровоточащих ран, которые будут смотреть на небо с такою же непонятною естественностью, с какою звезды смотрят с неба на землю, — как химическое перерождение земли от всюду сгнивающих в ней человеческих и животных трупов. Поверишь ли, иногда я так ярко чувствую, как вся земля мыслит свою упорную кладбищенскую думу.
Но все же этот ужас материального плана еще не самый страшный. Страшнее той смерти, которую сеет война в материальном мире, та жизнь, которую она порождает в сознании почти всех без исключения людей. Грандиознейшие миры упорнейшей лжи возвышаются ныне в головах всех и каждого. Все самое злое, грешное и смрадное, запрещаемое элементарною совестью в отношении одного человека к другому, является ныне правдою и геройством в отношении одного народа к другому. Каждая сторона беспамятно предает проклятию и отрицанию все великое, что некогда было создано духом и гением враждующей с нею стороны.
В России неблагодарное забвение того, что сделала германская мысль в построении русской культуры. Бездарное и безвкусное переименование Петербурга Петра и Пушкина в Шишковско-националистический Петроград.
В Германии, стране философии и музыки, еще того хуже, еще того преступнее и позорнее. Немецкие журналисты и писатели протестуют против переводов на немецкий язык величайших произведений враждующих с Германией сторон. Немецкие ученые отказываются от почетных знаков, дарованных им научными институтами Франции и Англии. Немецкая армия безумно и бездарно расстреливает величайшее произведение искусства, собор в Реймсе, изменяя тем самым той благодарной «вечной памяти» потомства, которую мы обещаем нашим любимым покойникам, когда отпетое церковью тело опускаем в открытую землю.