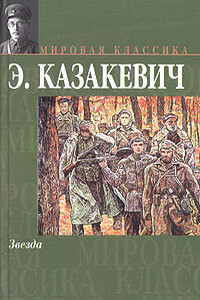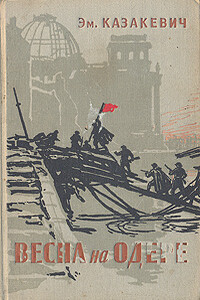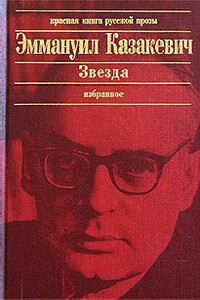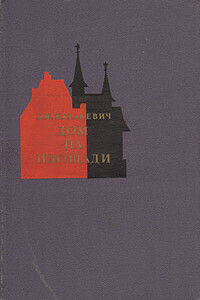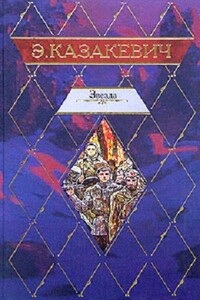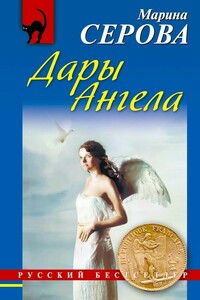20. I.1948 г.
Сегодня получил письмо от Л. Брик: сестре ее, Эльзе Триоле, и Арагону понравилась «Звезда», они переведут ее для журнала «Europe». Просят мою биографию, "кажется, необычную". Странное и неприятное впечатление произвела почтовая марка на письме — с портретом Маяковского, словно визитная карточка. Вероятно, у нее огромный запас этих марок.
Сегодня утром закончил пятую главу «Старкова». Быстрота, с которой пишется эта вещь, — поразительна.
7. VI.1948 г., Рига.
Читаю первые части "В[есны] в Е[вропе]". Может быть, и неплохо, но не для меня. Типичнейшая беллетристика за редким исключением. Таня, несмотря на все, противна. Кажется, я взял на себя задачу не по силам. Не чувствую в себе изобилия творческих сил.
Здесь миленький приморский курорт — под немецкие балтийские курорты, но сортом пониже. Я снял номер в гостинице в Майори. И хотя тут тихо, солнечно и одиноко — но не пишется, и мыслей в голове нет, и чувство собственного убожества угнетает душу.
В романе — сумбурное, произвольное смешение красок, лиц, наречий. Нет строгих линий "Двое в степи", нету и поэтичности «Звезды». Неэкономность, расплывчатость, детали заслоняют целое. Замысел — какой-то нищий, композиция не ясна мне самому еще, хотя что-то и предполагалось вначале.
Море здесь (Ostsee) — серенькое, совсем не похожее на южные моря. Пляж, однако, хорош — песок. В море не видно пароходов и парусников. Отсутствие скал и гор лишает море величия и грандиозности, свойственных Черному морю. И самое странное, почти чудовищное для человека средних широт — сосны у самого моря! Как русский на Таити.
9. VI.1948 г., Рагоциемс.
А вот теперь я в латвийской рыбачьей деревне. Это очень разбросанная, хуторского типа, деревенька на самом берегу Ostsee. Я называю это море Ostsee, а не Балтика, потому что второе для нашего уха звучит Петроградом и Кронштадтом, наконец — Вс. Вишневским. Здесь же колорит (…) свинемюндевский и рыбацко-контрабандный (…)
Я сегодня катался на лодке с молодым рыбаком Илмаром. Море становится глубоким на очень далеком расстоянии от берега, и еще с километр можно ходить по морю, не замочив колен. Это очень удобно для детей и для Иисуса Христа, которому здесь было бы особенно легко ходить по волнам в открытом море. (Шлиссельбуржец Н. Морозов мог бы на этом основании совершить переворот в истории, открыв, что местом действия Евангелия было юго-вост[очное] побережье Балтийского моря.) (…)
Тут не мечтают о будущем, о счастье многих, наконец, — о своем личном возвышении, выдвижении, карьере. Нет, — мечта об одном: чтобы все осталось по-прежнему. Чтобы налоги были не слишком высоки. Чтобы никого не выселяли. Чтобы рыбы было столько же или даже больше, ежели возможно. Чтобы и не богатеть даже особенно, поскольку это не так просто, а чтобы не беднеть. Чтобы спокойно прожить жизнь. Сбою жизнь.
Во всем этом, пожалуй, есть своя прелесть. Конечно, тут и страсти какие-то кипели, но страсти глубоко личные, никак не общественные, породившие в литературе XX века Гамсуна, Банга и др. Это литература зрелого капитализма, стремящегося не скользить далее, ибо далее пропасть, революция, катастрофа.
Ленинград, 13 июня.
(…) То, что я в Ленинграде, несказанно меня волнует. С.-Петербург, Питер 1917 года, Ленинград 1941–1943 годов, все это вместе и каждое в отдельности живет в этих камнях.
Я сегодня много бродил по городу, видел Казанский собор с Кутузовым и Барклаем, Зимний дворец, Исаакий, Адмиралтейство, Сенат, Главный штаб, Александровскую колонну, Николая I, Екатерину и, наконец, Петра, Медного всадника. Конечно, все это прекрасно и странней всего то, что это точно такое, как описано в книгах. Предстоит белая ночь.
Здесь жили Пушкин, Достоевский и Гоголь. И все непохоже на правду.
Приятно оставлять такие впечатления на зрелые годы. Нельзя в юности все перечитать и пересмотреть — первые впечатления нужно и на после оставлять. Мне предстоят еще удовольствия: Кавказ, мусульманская Азия, «Идиот» Достоевского. Теперь же я упиваюсь удовольствием, имя которому С.-Петербург — Ленинград (…)
14. VI.1948 г.
От Луги до Ленинграда все перерыто и перекопано старыми траншеями, заросшими травой, завалено ржавой проволокой и спиралями Бруно, уставлено танками — нашими и немецкими, — разбитыми, раздетыми. Развалины маленькими кучами лежат на равнине, как капища языческих идолов. Как раз в момент прохода поезда, на лугу, в километре от железной дороги разорвалась мина и черный (знакомый!) столб дыма поднялся к небу, затем до поезда донесся глухой, короткий звук взрыва. Мы так и не успели разобрать, кто виновник этого происшествия — меланхолическая корова, глупая собака или мальчик, игравший на лугу. Война еще вокруг, хотя все забыли о ней (…)