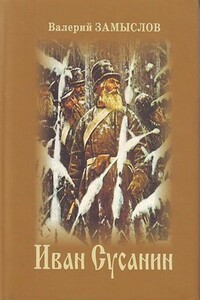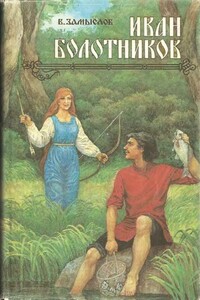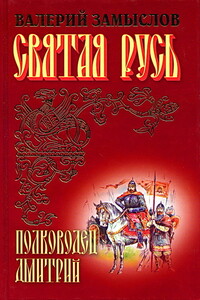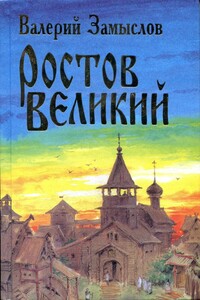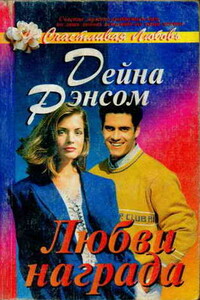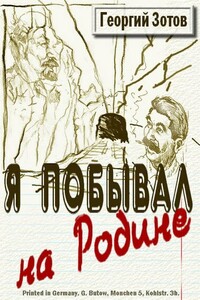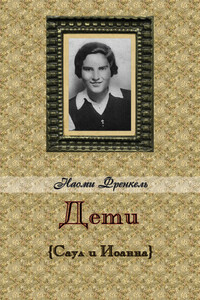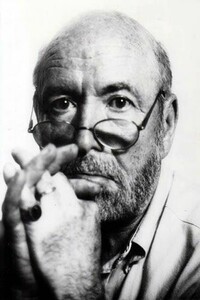— Всегда Ванька виноват!
— Виноват! «Мне лошадь запрячь — раз плюнуть». Вот и плюнул, абатур![1] Хомут — набекрень, супонь — гашником[2].
Округ лошади, саней и путников разыгралась метель, да такая неугомонная и бесноватая, что в трех саженях ничего не видно.
Двенадцатилетний Ванятка, довольно крепкий и рослый отрок, в облезлом бараньем кожушке, весь запорошенный снегом, проваливаясь в сугробах, двинулся к отцу, но его остановила Сусанна.
— Погодь, сынок.
Голос матери едва прокрался до Ваняткиных ушей.
— И ты, Осип, отойди. Отойди, сказываю!
Оська, неказистый, приземистый мужичонка, норовил, было, поправить хомут, но супруга слегка двинула его плечом, и муженек едва в сугроб не отлетел.
Сильной и приделистой была молодая баба Сусанна. Ни в пахоте, ни в косьбе, ни в какой другой работе мужикам не уступала. Даже избу топором могла изрядно рубить.
Деревенские мужики посмеивались:
— Те, чо не жить, Оська. Твоей Сусанне из чрева матери надо бы мужиком вывалиться. Ловкая баба!
— Закваска была добрая. Отец-то ее, Матвейка, на медведя с рогатиной ходил. Экое чадо выстругал, хе-хе.
— А ведь не размужичье. И статью взяла, и лицом пригожа. Добрая женка!
А вот на Оську мужики дивились: кажись, от одного корня на свет вылупился, но вырос замухрышкой. Дай щелбана — и лапти к верху. Недосилок и есть недосилок. Ванятка, никак в деда уродился. Ядреный парнек подрастает.
Сусанна управилась с хомутом и села в сани.
Метель выла на все голоса, засыпая белым покрывалом путников.
— Сгинем, — смахивая рукавицей снег с куцей бороденки, удрученно выдохнул Оська.
— Окстись! — недовольно молвила Сусанна.
— Куды ж дале-то?
Супруга не сказалась: покумекать надо. Наобум Буланку вожжами хлестать — и вовсе дело пропащее. Лошадь с дороги сбилась, начала по сторонам брыкаться — вот и ослаб хомут. На Ванятке вины нет: он с упряжью давно ладит… Но что делать в экую завируху? Добро зарано выехали, добро за полдень не перевалило, а то бы в сутемь угодили. Вот тогда бы совсем пришлось худо. Да и ныне еще — как Бог взглянет.
— Сидеть бы уж в своей деревеньке, — глухо донеслось до Сусанны.
Супруга вновь не отозвалась. Перетрухнул мужик, вот и деревеньку помянул. А не сам ли весь предзимок скулил:
— Худая жисть. Кутыга оброками задавил, в лес с топоришком не сунешься, Да и все рыбные ловы под себя заграбастал. Надо в Юрьев день[3] к другому барину уходить.
— А пожилое[4] скопил?
Оська лишь тяжело вздохнул. Сидел в курной избенке да скорбно загривок чесал. Угрюмушка на душе. Жита после нови — с гулькин нос: барину долги отдал, старосте-мироеду да мельнику за помол.
А тут и тиун[5] нагрянул. Подавай в цареву казну подати, пошлины да налоги: стрелецкие, дабы государево войско крепло да множилось, ямские, чтоб удалые ямщики — «соловьи» — по царевым делам в неметчину гоняли, полоняничьи, чтоб русских невольников из полона вызволить… Проворь деньгу вытрясать. А где на всё набраться?
Поскребешь, поскребешь потылицу — и последний хлебишко на торги. Вернешься в деревеньку с мошной, но она не в радость: едва порог переступил, а тиун тут как тут.
— Выкладай серебро[6] в государеву казну.
Выложишь, куда денешься. Лихо жить у барина, голодно. Надо бы к новому помещику идти, авось у того постытней будет, но в кармане денег — вошь на аркане, да блоха на цепи. Пожилое Кутыге век не наскрести, хоть лоб разбей.
Поглядела на сумрачного мужика Сусанна и, изведав, что дворянин Кутыгов вознамерился новую баню рубить, пошла во двор за топором, а через три седмицы взяла силки, стрелы и колчан и ушла в дальний лес, добыв барину семь белок и лисицу.
— Теперь на рубль[7] потянет?
Кутыга рубль выдал, но немало подивился:
— Горазда ты, женка. Телесами добра… Может, ко мне в поварихи пойдешь?
— Благодарствую, барин, но мы в Юрьев день уйдем из твоей деревеньки.
— Жаль… Была б моя воля, я тебя цепями приковал.
— Прощай, барин.
В Юрьев день, захватив рубль за пожилое, пошел Оська на господский двор. Холопы дерзки, к дворянину не пускают.
— Недосуг барину. Ступай прочь!
— Нуждишка у меня.
Холопы серчают, взашей Оську гонят, вышибают из ворот. Мужик понуро садится подле тына, ждет. Час ждет, другой.
На дворе загомонили, засуетились: барин в храм снарядился. Вышел из ворот в меховой шапке, теплой лисьей шубе, в руке посох.
Оська — шасть на колени.
— Дозволь слово молвить, батюшка.
Кутыга супится.
— Ну!
— Сидел я на твоей землице, батюшка, пять годков. Справно тягло нес, а ныне, не гневайся, сойти надумал.
— Сойти? Аль худо у меня?
— Худо, батюшка. Лихо!
— Лихо? — поднял косматую бровь Кутыга.
— Лихо, батюшка, невмоготу боле оброк и барщину нести.
— Врешь, нечестивец! — закричал Кутыга. — Не пущу!
— Да как же не пустишь, батюшка? На то и воля царская, дабы в Юрьев день мужику сойти. Оброк те сполна отдал, то тиун ведает. А вот те за пожилое.
Оська положил к ногам Кутыге серебряный рубль, поклонился в пояс.
— Прощай, государь[8].
Дворянин посохом затряс, распалился:
— Смерд[9], нищеброд, лапотник!..
Долго бранился, но Оську на тягло не вернуть: Юрьев день! И государь, и «Судебник»[10]